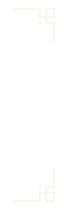|
Картины:

Белая зима.
Грачиные гнезда, 1904

Март, 1939

Утренний чай.
Подснежники, 1939-1954
|
Автомонография Игоря Грабаря
Осенью 1898 года в Мюнхен приехал из Москвы учиться живописи князь С.А.Щербатов, сын князя А.А.Щербатова, первого московского городского головы, друга Б.Н.Чичерина и Ф.М.Дмитриева, от которого я слыхал много лестного о нем. Молодой Щербатов поступил к Ашбе, потом перешел ко мне и в начале 1899 года сделал мне предложение, которое меня весьма устраивало. Договорившись с Трейманом и узнав, какую приблизительно сумму приносит мне ежемесячно школа, он спросил, не устроила ли бы меня такая комбинация: они мне выплачивают столько же, сколько я имею там, но я бросаю школу, работаю только у себя в мастерской и в свободное время занимаюсь с ними обоими по рисованию и живописи.
Попросив несколько дней для размышления и взвесив все "за" и "против", я принял предложение. Щербатов поселился по той же лестнице, где жили мы с Трейманом, лишь этажом ниже, и начался новый период моей мюнхенской жизни. Щербатов был очень талантлив, живо схватывая малейшие намеки, и вскоре так усвоил строение головы, лепку, игру света, что оставил далеко позади других учеников, работавших два года и больше. Трейман шел тише, его германская кровь тянула его к иным берегам, к которым он впоследствии и приплыл: он пишет сейчас небольшие акварели и темперы "с настроением - тонко выписанные немецкие виды с догорающим вечером, с молодым месяцем, - скорее графического, чем живописного порядка. Вместо школы Ашбе и Грабаря стала опять школа Ашбе.
Около этого же времени в Мюнхен приехал из Петербурга барон К.К.Рауш фон Траубенберг, поступивший, конечно, также в школу Ашбе. Он был типичный Дилетант, прожигатель жизни, но человек не без способностей. Циник от природы, развивший это свойство до невероятных пределов своеобразной философией эгоизма, он сначала рисовал, потом стал лепить. Мне пришлось с ним заниматься и по скульптуре. Я объяснил ему строение головы и человеческого тела. Скульптурная техника была мне знакома, так как одно время я Довольно много лепил, сперва для изучения анатомии, а затем для укрепления своего чувства формы.
Впоследствии Траубенберг жуировал в петербургских светских кругах, остепенился, женился и работал небольшие статуэтки, имевшие на выставках успех.
В начале июня 1899 года неожиданно ко мне приехал из Инсбрука дедушка. Несмотря на свои восемьдесят с лишним лет, он, как юноша, взбегал по лестнице на четвертый этаж, был весел, ел за двоих и уговорил меня поехать вместе с ним к патеру Кнейпу, славившемуся на всю Европу своей системой водолечения. Я поехал и был там свидетелем изумления врачей, исследовавших его сердце и прочие органы. Главный из них спросил:
- Да сколько вам лет?
- Девяносто три, - ответил дедушка, всегда увеличивавший число своих лет, почему его действительный возраст так и остался невыясненным.
- Ну, так вам нечего у нас делать: у вас сердце юноши, легкие тоже. Вы проживете еще столько же. А какой образ жизни вы ведете?
- Всю жизнь брал ледяную ванну утром и вечером, спал зимой и летом при открытых окнах и пил только воду.
- Вот она живая реклама наших идей.
Через два года он схватил воспаление легких. Быстро с ним справившись, но имея еще температуру, он ночью открыл настежь все окна, закрытые по распоряжению врачей, и принял холодную ванну. Это его свело в могилу.
К началу 1899 года относится и разрыв Репина с "Миром искусства" из-за моей статьи, в которой я неуважительно отозвался о Яне Матейке, знаменитом польском художнике, высоко ценимом Репиным. Он напечатал в апрельском номере "Нивы" за этот год статью, в которой возмущался моим отзывом и заявлял, что ввиду этого порывает с "Миром искусства".
В конце 1899 года нашу колонию глубоко взволновало исполнение в Мюнхене оперы "Руслан и Людмила", о котором я послал статью в "Новое время". Это было словно дивным сном, оставившим надолго светлое радостное воспоминание. С этого времени я зачастил в концерты.
Весной 1900 года мы с Щербатовым, Трейманом и Траубенбергом поехали в Париж на Всемирную выставку. Незабываемы впечатления, вынесенные мною от ретроспективного отдела выставки, в котором впервые столь полно были представлены такие гиганты французского искусства, как Милле, Курбе, Мане. Но эта выставка мне подсказала мысль, не дававшую мне с тех пор покоя, - мысль, что художнику надо сидеть у себя дома и изображать свою, ему близкую и родную жизнь. Милле, Курбе и Мане писали то, что видели вокруг себя, потому что понимали это свое лучше, чем чужое, и потому что любили его больше чужого.
Все, над чем я работал в последующие годы у себя в городской мастерской и в мастерской загородной, которую снял летом 1900 года, носило отпечаток неуверенных нащупываний, попыток найти себя. Но я находил себя исключительно только в работах, исполненных непосредственно с натуры, - в натюрмортах и портретах. Я с тем и снял загородную мастерскую, чтобы, удалившись из города, испытать силы на воздухе.
Мастерская была огромная, светлая, с прекрасными хорами, помещалась во втором этаже и соединялась с двумя комнатами для жилья. Внизу было еще несколько комнат. Этот дом был выстроен для себя популярным в то время в Германии "сверххудожником" и "сверхчеловеком" Дифенбахом, автором гигантского фриза "Per aspera ad astra", 68 метров в длину, объявившим себя основателем новой религии. У него были сотни поклонников и поклонниц, славивших его повсюду и собиравших для "учителя" деньги. Так как в деревеньке Дорфен, возле Вольфратсгаузена, где находился этот дом, про последний ходила "дурная молва" и не один местный крестьянин клялся, что собственными глазами видел ночью в мастерской "белое привидение", то мне, как не боявшемуся привидений, удалось нанять весь дом за какую-то смехотворную сумму - что-то марок за тридцать - на все лето.
Баварская природа меня никак не трогала; за все время своего пребывания в Мюнхене я не написал ни одного баварского пейзажа. Пробовал брать натурщицу, одевал ее в различные платья и писал с нее небольшие этюды-портреты в пленэре: они выходили сухими и надуманными. Почти все сделанные здесь вещи я уничтожил на одном из тех аутодафе, которые я до поры до времени устраивал в свои мюнхенские годы, в дни особых сомнений и усугубленного презрения к собственным упражнениям. Я сжег не менее сотни досок, холстов и картонов, отдавая себе ясный отчет, что человечество от этого ничего не потеряет.
Одна из дорфеновских небольших картин - портрет женщины в черном, в рост, на фоне зелени, с пуделем - долгое время находилась у М.В.Добужинского, который приехал в Мюнхен в 1899 году и после работы у Холлоши перешел к Ашбе. Он выгодно отличался своей красивой внешностью, холеной бородкой, подстриженной лопаткой, опрятным костюмом и изысканными манерами от нашей довольно простоватой и слегка распущенной компании. Он окончил университет и приехал серьезно учиться живописи, но тогда еще мало продвинулся вперед и был на положении начинающего.
Кроме "Женщины в черном", в которой мне хотелось передать музыкальное чувство ритма и гармонии черного с зеленым, я работал еще над несколькими аналогичными темами, с названиями, заимствованными из музыки. Женщина в черном была "Adagio". Была еще одна женская фигура, называвшаяся "Pizzicato", что должно было находить свое выражение в технике дробных деталей и в барашковых облаках неба. Было и "Largo" и "Andante". Но все это было как-то слишком "иностранно" и даже слишком "по-мюнхенски", а к igoo году я уже определенно тяготился печатью Мюнхена, которую чувствовал на себе, несмотря на явно обозначившееся тяготение к Парижу. Все было не свое, а чужое, навеянное. То здоровое и жизненное начало, которое мне давали натюрморты и этюды с натурщиц в мастерской, здесь от меня непонятным образом ускользало, уступая место надуманности.
Еще за два года до того все мы возмущались отношением Москвы и московских художников к живописи, не похожей на тогдашнюю русскую. Приехавший тогда в Мюнхен Кандинский язвительно рассказывал, как Поленов критиковал портрет Мартыновой Браза, на котором будто бы ручка "не по-русски написана". А в 1901 году меня и самого уже «гложет червь сомнения»: ведь, в самом деле, все это напускное, понатасканное откуда-то.
Кроме натюрмортов была только одна тема, выпадавшая из всех других имевшая признаки жизненности, - тема "толстых женщин".
Во время поездки в Париж в 1898 году я был поражен пышностью и великолепием тогдашних мод. Женщины в театрах утопали в какой-то черно-серебряной пене из муслина и шелка. Мне хотелось попасть в какой-нибудь богатый банкирский или аристократический дом, где бы я мог видеть "цвет парижского света". Это устроил мне И.И.Щукин с помощью Родена, Ренуара и Дега. Одна из самых больших банкирш, фамилии которой я сейчас не помню, устраивала у себя маскированный бал, на который должен был съехаться весь Париж. Сюда-то мне и достали приглашение. Зрелище, открывшееся перед моими глазами, было поистине волшебным по роскоши нарядов, блеску бриллиантов и "галантности" общества. Но самая потрясающая картина развернулась передо мною, когда я заглянул в гостиную. Здесь у стены сидели в ряд необычайной толщины женщины, с огромными вырезами на тучной груди и спине, с оплывшими жиром лицами и шеями, с фантастическими формами обнаженных рук. Общая гамма была серебристо-черная; лишь две фигуры выделялись из нее ярким синим и ослепительно зеленым цветом.
Я обомлел от этого зрелища и долго стоял, прислонившись к дверям, скрытый портьерой. Было нечто чудовищное, отвратительное, отталкивающее в этой фаланге мяса, пуха и бриллиантов, но было и нечто притягивающее, завлекающее, магическое.
Я долго не мог прийти в себя и, вернувшись в Мюнхен, начал искать на бумаге и холсте выражения сложных и противоречивых чувств, вызванных у меня зрелищем развала денежной аристократии. Сначала я строил все на черной гамме, потом на смешанной, еще позднее на светлой и пестрой. Три года мучила меня эта проклятая тема, которой я в Мюнхене так и не одолел, хотя беспрестанно ходил наблюдать подобие виденных фурий в театральные и концертные залы. Большую картину на ту же тему я написал уже в России, три года спустя.
В апреле 1901 года я съездил с Щербатовым и Трейманом на Рейн, в Кольмар, чтобы увидать в оригинале знаменитые картины Матиса Грюневальда, а вернувшись обратно, я уже ни о чем не мог думать, как только о возвращении в Россию. Что бы я ни делал, что бы ни начинал, одна неотступная мысль стояла в голове: назад, в Россию.
стр.1 -
стр.2 -
стр.3 -
стр.4 -
стр.5 -
стр.6 -
стр.7 -
стр.8 -
стр.9 -
стр.10 -
стр.11
Эпоха "Мира Искусства"...
|