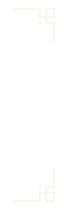|
Картины:

Белая зима.
Грачиные гнезда, 1904

Март, 1939

Утренний чай.
Подснежники, 1939-1954
|
Автомонография Игоря Грабаря
Серов произвел на всех отличное впечатление своей скромностью, неудовлетворенностью своими собственными вещами, снисходительностью к другим и глубиной своих суждений. Он говорил то, что думал, не лукавя и не делая комплиментов, почему мне было очень приятно, когда он, внимательно рассмотрев мою голову девочки, повешенную в оригиналы школы, расхвалил ее, отрезав кратко и решительно:
- Очень хорошо нарисовано и неплохо написано. Так в Петербургской академии не сделают.
Проездом из Парижа в Россию к нам заехал на несколько дней Виктор Зльпидифорович Мусатов, бросивший Кормона и решивший ехать к себе на Родину в Саратов. Маленький, горбатый, с худощавым бледным лицом, светлыми волосами ежиком и небольшой бородкой, он был трогательно мил и сердечен. Мы все его любили, стараясь оказывать ему всяческое внимание, и только подшучивали над его ментором Кормоном.
Мусатов был тогда всецело во власти импрессионистов, писал в полудивизионистской манере, в холодных голубых цветах.
Наши работы ему казались неплохими, и он просил меня подарить ему одну из моих голов, этюд натурщика-итальянца, взятый в повороте в три четверти. Много лет спустя, незадолго перед смертью, он заставил меня, в виде запоздалой компенсации, взять его этюд женской головы, писанный с сестры на солнце, на фоне зеленой травы. В то время никто из нас не мог себе представить, да и он сам не знал, во что выльется его дальнейшее искусство, скованное тогда импрессионизмом.
После этого у нас перебывало еще много товарищей по Академии, а однажды нагрянула вся мастерская Куинджи во главе с самим Архипом Ивановичем, который возил своих учеников на собственный счет по всей Европе. Самоуверенные рассуждения его об искусстве показались нам слишком примитивными и невразумительными.
Судьбе угодно было, чтобы в Мюнхене мне еще раз выпала на долю работа в области театра. Известный писатель Эрнст фон Вольцоген, талантливый новеллист, юморист и драматург, затеял поставить в Мюнхене "Власть тьмы" Толстого. В поисках русских, которые помогли бы ему разобраться в непонятных по одному только тексту драмы бытовых подробностях русской крестьянской жизни, Вольцоген напал на нас с Кардовским, и нам пришлось впрячься в сложную работу по постановке.
Кардовский сочинил отличные эскизы декораций, которые мы писали вместе. Я учел опыт, извлеченный мною из посещений врубелевской мастерской, в Панаевском театре, и из мастерской декораций к "Рафаэлю", писанных Щербиновским. Декорации вышли нешаблонными, и художники отметили их чисто живописную новизну, в Мюнхене до этого не виданную. Спектакль обошелся без "развесистой клюквы" и был вполне приемлем даже для русских:
все актеры крестились как следует, обнимались, садились, разговаривали, как настоящие мужики, и были одеты во все подлинно мужицкое.
Постановка имела успех. У Вольцогена я познакомился с художником Слефогтом, жившим тогда в Мюнхене и вскоре переехавшим в Берлин, где он выдвинулся в первые ряды немецких мастеров живописи.
Надо было приступать к практическим мерам, вытекавшим из моих парижских выводов о преимуществах парижской и мюнхенской систем. В применении к рисунку это не представляло никаких затруднений, и я тотчас же по возвращении в Мюнхен приступил к рисованию по французской системе, с учетом всех бесспорных сторон системы Ашбе. Дело сразу двинулось: рисунки стали строже, точнее передавали натуру и были проще в трактовке форм и линий.
Гораздо сложнее обстояло дело с живописью. Надо было изыскивать какие-то иные средства, ибо в цвете меркой не поможешь. После долгих изысканий и бесконечного экспериментирования я набрел на способ, представлявший в живописи нечто, аналогичное мерке в рисунке. Важно было создать такой способ писания с натуры, который давал бы максимальные гарантии самоконтроля и объективной правды, необходимой при школьном штудировании. Я начал ставить свой холст рядом с натурой, вплотную притыкая его к последней.
Сзади я укреплял зеркало, отражавшее одновременно и натуру, и холст с этюдом, что давало возможность постоянной самопроверки. Задача заключалась в том, чтобы передать натуру до полной иллюзии, до невозможности отличить, где натура, а где холст с живописью. Я отдавал себе ясный отчет, что избранный мною путь объемного иллюзионизма чреват опасностями но, избрав его, я твердо по нему двинулся, не сворачивая в сторону, ибо для меня он был только временным средством, а не конечной целью.
Я заранее шел на полный отказ от субъективистических и индивидуалистических художественных концепций, во имя объективной правды, но твердо верил, что придет день, когда, преодолев эту узкую, чисто учебную задачу, смогу перейти на иной путь. Надев эти жесткие шоры, я пустился в писание натюрмортов, сначала простых, легко поддававшихся доведению до иллюзорности, а затем все более сложных и технически трудных.
Занятый этим делом, я мало времени мог уделять школе, и после некоторых колебаний, поговорив по душам за стаканом пива с Ашбе, я объявил ему, что вынужден уйти из школы, ибо работаю почти исключительно у себя в мастерской. Ашбе был чувствителен, поэтому всплакнул, и мы расстались друзьями.
Весть о моем уходе из школы была воспринята некоторыми из моих товарищей, ориентировавшихся уже давно на мою "систему", как знак некоего протеста и шаг демонстративного значения, чего на самом деле не было. Через несколько дней ко мне явилась депутация, человек в двадцать, предложившая мне открыть свою собственную школу, причем все связанные с этим расходы ученики готовы были принять на себя.
Я категорически отклонил предложение, поблагодарив за оказанную мне этим обращением честь и подчеркнув, что я ушел только потому, что хочу работать для себя и у себя, и что я считал бы себя последним человеком, если бы, будучи в дружбе с Ашбе, пошел на шаг, который мог быть истолкован как предательский по отношению к нему. Меня пробовали уговорить, но я оставался при своем решении.
стр.1 -
стр.2 -
стр.3 -
стр.4 -
стр.5 -
стр.6 -
стр.7 -
стр.8 -
стр.9 -
стр.10 -
стр.11
Продолжение...
|