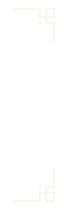|
Картины:

Мартовский снег,
1904

Груши на синей
скатерти, 1915

Иней. Восход солнца,
1941
|
Автомонография Игоря Грабаря
Нам казалось очень забавным, что его звали совершенно так же, как Каткова: Михаил Никифорович. Он нам нравился и ласковым характером, и умением с чувством читать. Затаив дыхание, мы слушали повесть о Юрии Милославском, а затем о князе Серебряном.
После того как он окончил лицей, я его никогда более не видал, хотя знал, что он удесятерил богатство отца и был одной из крупнейших фигур московского коммерческого мира до революции.
Чтение вслух Бардыгина разбудило страсть к чтению, временно потухшую после Егорьевска и дней "Бедной Лизы". Я принялся неистово читать, глотая книгу за книгой, пока не была перечитана вся наша пансионная библиотека.
Постепенно перечитал всего Пушкина, Гоголя, Тургенева, Достоевского и Толстого - те тома, которые не были изъяты лицейской цензурой. Единственный доступный нам журнал, "Русский вестник", того же Каткова, был также прочитан в беллетристической части от доски до доски, и уж без цензуры.
Чего недоставало в лицее, я добывал через Щукина, брата Новгородцева.
Постоянное чтение навело на мысль попытать и свои силы в литературе. Переходя из класса в класс, от "Милославского" к "Серебряному", от "Серебряного" к "Войне и миру", от "Войны и мира" к "Братьям Карамазовым" и получая одновременно стопки французских книг от Тастевена, где были и Бальзак, и Теофиль Готье, и Флобер, а под конец Золя и Мопассан, я менял и свой литературный жанр, и свои вкусы, подражая всем переменным властителям моих дум. Каждый раз, начиная писать повесть или рассказ, я сжигал только что перед тем написанную, которую находил детски-наивной и неумелой. В восьмом классе я уже не писал "серьезных" повестей, с "идейкой", а перешел на юмористику и шуточный жанр. Покидая лицей с аттестатом зрелости в кармане и золотой медалью, я увез с собой целую тетрадь небольших литературных безделок, которые вскоре с охотой разобрали петербургские и московские юмористические журналы. В то же время я очень зачитывался рассказами "Антоши Чехонте" в "Будильнике" и "Осколках", высоко расценивая его литературное дарование, но, конечно, не подозревая, что их автор станет когда-нибудь вровень с Тургеневым.
Каждое лето, на Рождество и на Пасху, я уезжал из лицея. Это было столь же необходимо для моих занятий живописью, для посещения картинных галерей и выставок, сколько и для того, чтобы уйти из угнетавшего и унижавшего чувство достоинства окружения. Отец не мог оплачивать дальний проезд в Измаил для каких-нибудь десяти дней пребывания в родной семье, но на летние приезды он сколачивал необходимые 20-30 рублей в оба конца. Ездил я только в третьем классе, но и это выходило не по карману. Кое-что присылал иногда старший брат из-за границы, кое-что перепадало от других родственников, бывавших проездом в Москве, и я мог маневрировать, выкраивая на краски и холст, на булку с колбасой, на билеты. Случалось ездить и "зайцем", под скамейкой, особенно на короткие расстояния, как в Егорьевск.
В Егорьевске я бывал чаще всего, два раза в год почти наверное. Бывало думаешь, как бы только туда добраться, а на обратную дорогу Елизавета Алексеевна всегда уж сунет в руку целковый-другой, да даст пирожков, конфет, мятных пряников. В Егорьевске я чувствовал себя так хорошо, как нигде.
Там не было около меня ни одного важного человека, ни одного неприветливого взгляда, и был он для меня каким-то целительным санаторием. Здесь и работалось как-то особенно хорошо. Кого только я тут не переписал! Писал, конечно, и попа Ивана. Одна его голова, относящаяся к 1885-1886 годам, сохранилась у меня до сих пор. Слабая по технике, она, как говорили, Да и сам я помню, была очень схожа с оригиналом. "Сходственно!" - говорил сам изображенный, разглядывая портретик в кулак.
В то время Иван Яковлевич уже завел участок земли в деревеньке Сидоровке, верстах в 12 от города, где построил дом. Мы ездили туда, и там я также писал этюды из окна - зимние мотивы.
Летом 1888 года мы ездили с Елизаветой Алексеевной на ее родину, в Струпну Зарайского уезда, на реке Осетре, где ее отец был священником, также в Макшеево Егорьевского уезда, где был священником отец Ивана Яковлевича. Позднее я не раз бывал еще и в Струпне, и в Макшееве, и в Сидоровке.
Несмотря на то что в Егорьевске уже до моего приезда туда, следовательно в 1870-х годах, существовала огромная Хлудовская фабрика и было несколько менее значительных других мануфактуристов, город жил той же патриархальной жизнью, как полвека назад. В 1882 году жителей было 5501 - Цифра даже по тому времени не слишком внушительная. Все жили обособленными группами: дворяне отдельно, чиновники тоже отдельно, в своем кругу - купечество, духовенство, мещане. Все знали всех. Так, весь город знал цирюльника Петра Васильевича, или попросту Петрушку, хотя ему было уже под шестьдесят. Жил он на самом конце, за городским садом. Парикмахерских вообще не было, брились только чиновники, да и то больше сами, дома, пробривая подбородки. Стриглись также дома, а посылали за цирюльником только тогда, когда была надобность ставить пиявки или банки. А Петр Васильевич был мастер на эти дела, да и вообще на все дела. Недаром у него усадьба была не хуже, чем у иного мелкопоместного помещика, а дом, на каменном фундаменте, крытый железом, был сверху донизу набит всяким добром.
В этом доме происходили знаменитые петушиные бои, славившиеся на весь уезд. В i888 году, будучи уже в восьмом классе, я попал на такой бой, получив разрешение, дававшееся хозяином только верным людям: бои были запрещены. К цирюльнику съехался люд из дальних концов уезда: набралось человек тридцать, все больше купцы. В огромном сарае устроили круг, наподобие циркового, передние сидели, задние стояли, а в третьем ряду вскочили на табуретки и ящики. Бои происходили в несколько смен. Азарт петухов передавался зрителям, ставившим на бойцов совершенно так, как ставят на скачках. Крупные бумажки переходили из рук в руки, летали по воздуху, падали на землю. А петухи все бились, пока не падали замертво, и "отработавшую пару" не сменяли свежей. Я сам был заражен общим азартом, от волнения дрожал всем телом и стучал зубами, мысленно ставя то на одного, то на другого петуха.
На другой день я писал уже портрет Петра Васильевича, большого толстого мужика, вечно небритого, как и полагается цирюльнику, с седой жесткой щетиной на щеках и подбородке и большими усами, свисавшими над ртом. Портрет видел и одобрил весь город. "Сходственно", - в сотый раз повторял Иван Яковлевич, нацеливаясь на него кулачком.
Но самое потрясающее зрелище, свидетелем которого мне довелось быть в Егорьевске, развернулось за городом и кладбищем, в чистом поле. Я был еще мал, в первых классах. После уроков старшие гимназисты стали собираться кучками и о чем-то шептаться. Пронырливые из малышей скоро пронюхали, что к вечеру готовится бой, не помню уж, каких двух сторон, не то двух ближайших подгородних деревень, не то двух соседних концов города. Встали две стенки, человек по полтораста, если не более, и началась рукопашная. То сближаясь, то расходясь, то двигаясь вместе слившейся плотной массой вперед и назад, люди дичали и зверели, оглашая воздух нечеловеческим ревом. Из строя то и дело выбывали, людская толща редела: кого уводили замертво, кто сам еле ползал по мокрой земле, истекая кровью от выбитых зубов, кто валялся без памяти под ногами осатаневшей, потерявшей человеческий образ толпы.
Не знаю, как я добежал домой, и не знаю, чем все это кончилось, но помню, что я всю ночь не мог заснуть и утром боялся выйти на двор. На другой день говорили, что были убитые, а раненых и не перечесть.
стр.1 -
стр.2 -
стр.3 -
стр.4 -
стр.5 -
стр.6 -
стр.7 -
стр.8 -
стр.9 -
стр.10 -
стр.11 -
стр.12 -
стр.13
Продолжение...
|