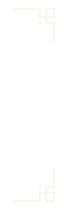|
Картины:

Мартовский снег,
1904

Груши на синей
скатерти, 1915

Иней. Восход солнца,
1941
|
Автомонография Игоря Грабаря
Все дела фирмы "И.В.Щукин с сыновьями" вел единолично Сергей Иванович, которого знатоки коммерческих дел называли "министром коммерции". Все выбирали понемногу свои части из общего дела, и Сергей Иванович постепенно превратился в главного хозяина и владельца. Иван Иванович ухитрился выкачать свою долю до конца, и, когда в 1907 году очутился без копейки в лапах ростовщиков, он умолял спасти его от неизбежной гибели, посылая одну телеграмму за другой. Сергей Иванович был неумолим и наотрез отказался ему помочь. Несчастный принял цианистый калий. После его смерти состоялся аукцион его испанской коллекции, не покрывший и четверти долгов.
В Париже Щукин был центром русской колонии профессоров, журналистов, художников. На его журфиксах неизменными завсегдатаями были М.М.Ковалевский, иезуитский патер историк Пирлинг, нововременский сотрудник Скальковский, Василий Немирович-Данченко, П.Д.Боборыкин и всяк, кто приезжал из России и чем-нибудь выделялся из среднего уровня. Но это была все же не та среда, к которой Щукина тянуло, перед которой он преклонялся, которой искал и которой гордился. Искал он только общества больших французов. Роден, Дега, Ренуар, Одилон Редон, Теодор Дюре, Гюисманс, Дюран-Рюэль - вот к кому его тянуло и видеть кого у себя ему было дороже, чем принимать всех нудных россиян.
Сам Щукин был умен, талантлив, остроумен и язвителен, но не глубок. Во всех его высказываниях, мыслях и характеристиках чувствовалась боязнь не показаться банальным. Отсюда фейерверки парадоксов, злых острот, при отсутствии настоящей злобы. В сущности он ничего не любил, кроме хорошей жизни, собирая картины только как украшение этой жизни и как одно из средств заставить о себе говорить. Он был величайшим циником и считал себя анархистом.
Уже в лицее в нем были заметны в зародыше все эти черты, развивавшиеся на моих глазах и превращавшие 15-летнего мальчика в распутника и прожигателя жизни. Этим он несказанно импонировал мне, и в сравнении с ним я чувствовал себя младенцем и глупышом, стыдясь своей отсталости.
Кроме Щукина в одном классе с нами был еще один "художник" - А.А.Шелашников, сын помещицы Бугурусланского уезда, покинувшей деревню для Москвы, чтобы воспитать сына. Не очень богатая, недавно овдовевшая, мать его сняла квартиру в небольшом деревянном доме на Остоженке, неподалеку от лицея, и я часто бывал у них по воскресеньям, пользуясь возможностью писать с натуры голову натурщика. Шелашникова пригласила для уроков живописи ученика Училища живописи, ваяния и зодчества некоего Телятникова, человека малоодаренного, но, по сравнению с нами, кое-что умевшего. Я с наслаждением писал с натуры "портрет", стараясь взять у своего нового учителя все, что он был в силах нам дать.
Через два года к нам присоединился еще один "художник", В.Н.Писарев, сын генерала, жившего на пенсию и имевшего небольшое именьице под Серпуховом, на Оке. Родители его жили в Москве, и он, как и Шелашников, был приходящим. Оба были добрые и хорошие ребята, и мы очень дружили. Особенно дружил я с Писаревым. Что сталось с Шелашниковым – мне неизвестно.
Наконец, классом старше нас был еще четвертый художник, Хрущев, бравший уроки живописи у Попова. Заметив, что я постоянно присутствую при этих уроках и что мне очень хочется самому пописать вместе с ним, Владимир Васильевич предложил мне взять мольберт и холст и работать вместе. Я тоже взялся за копирование этюда Киселева, принесенного мне Щукиным. После этого я копировал этюды ученика Попова и Киселева, Ярцева, данные мне Поповым, потом этюд Шишкина и чью-то женскую головку, довольно хорошо написанную, хотя и робкую по технике. Так как оригиналов я больше не мог достать, а пропускать драгоценных уроков мне не хотелось, то я купил по полтиннику в подворотне на Кузнецком мосту две олеографии с картин Клевера "Вид на острове Наргене" и "Зимний вечер", которые и копировал. Там же я купил этюд старика еврея, писанный никому тогда не известным Серовым, за три рубля, который и скопировал.
Владимир Васильевич относился ко мне с трогательным вниманием и, хотя я был бесплатным учеником, тратил много времени, давая ценные указания. От некоторых из рекомендованных им приемов уже в скором времени пришлось отказаться. Так, я отказался от разглаживания облаков при помощи флейца, от подмалевок жженой сьеной и перестал выщипывать из кистей полосками щетину, с целью получения особого зубчатого типа кистей для передачи листвы. Но он мне очень помог в рисунке и в начатках техники масляной живописи. Теперь, много лет спустя, я не могу забыть, как он посылал меня посмотреть "Боярыню Морозову" на Передвижной. "Хорошенько посмотрите, как написан снег под санями и в колеях, - говорил он. - Там все цвета радуги, а отойдешь - снег-то белый. Вот как надо писать!" Этой именно чисто живописной стороны картины Сурикова тогда никто не понимал, и его восторг от живописи снега в ней свидетельствует о чуткости Попова.
Я скоро так навострился копировать, что мои копии нельзя было отличить от оригиналов даже со стороны технической, отчего я еще более затосковал по работе с натуры. У меня было четыре возможности работать с натуры в стенах лицея: писать из окон, писать портреты окружающих, ставить себе натюрморты и сочинять сцены из жизни и быта лицея, списывая детали с натуры. Все это я и делал. Из огромных окон восточной стороны открывался чудесный вид на Москву, с Кремлем на заднем плане и живописными деревьями лицейского парка на переднем. Из окон южного фасада были видны Воробьевы горы, Нескучный сад, с красивыми зданиями дворца, Голицынской и Градской больниц, с Москвой-рекой на первом плане. Я без конца все это писал, раздаривая товарищам на память маленькие холстики с видами Москвы.
Я писал и портреты своих одноклассников, а также портреты дядек и служителей. Особенно удавались мне последние, старики усачи, бородачи и бакенбардисты: молодые лица были труднее и хотя все выходили похожими, но не было той свободы и легкости, с которыми писались пожилые и особенно седые люди. Лучше всех удался служитель по прозвищу Карась. С белой щетиной волос, с выпученными зелеными глазами он действительно напоминал карася. Но был он умен и остер. Мне на всю жизнь запомнилось одно его пожелание, высказанное мне с лукавой усмешкой во время портретного сеанса: "Научитесь так писать, чтобы с одного почерка двенадцать апостолов выходило!"
стр.1 -
стр.2 -
стр.3 -
стр.4 -
стр.5 -
стр.6 -
стр.7 -
стр.8 -
стр.9 -
стр.10 -
стр.11 -
стр.12 -
стр.13
Продолжение...
|