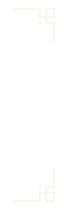|
Картины:

Мартовский снег,
1904

Груши на синей
скатерти, 1915

Иней. Восход солнца,
1941
|
Автомонография Игоря Грабаря
Не помню, кто у меня выпросил тогда этот этюд, производивший фурор, но, кажется, кто-то из гувернеров или преподавателей, хотевших во что бы то ни стало показать его Каткову. Говорили, что Карася ему действительно показали, и это похоже на правду, так как вскоре же после этого я был позван в его кабинет и удостоился лично от него получить лестный заказ: придумать и нарисовать форму для лицеистов, которую тогда предполагалось ввести. Мы окончили лицей еще без формы.
Я сочинил рисунок в типе формы Царскосельского лицея, как мне и было заказано Катковым, с треуголкой и шпагой, но треуголку и шпагу не утвердили. Утвержденный Александром III мой рисунок Катков мне потом показывал вызвал меня опять "пред свои ясные очи".
Очи у него были, впрочем, весьма неясные: какие-то бесцветные, белесые, неопределенные. Цвет лица он имел также бесцветный - бледно-желто-серый, и такого же серого цвета были редкие волосы и жидкая бородка. Когда, вскоре после моего поступления, нам сказали, что на урок французского языка придет сам Михаил Никифорович, что было невероятной редкостью, я, не бывавший еще в Ростовцевских номерах и все еще находившийся под влиянием рассказов отца о необыкновенной силе Каткова, который "сильнее иных министров", ждал появления человека огромного роста, мускулистого, - косая сажень в плечах.
Как же я был разочарован, увидавши вместо того хилую, тщедушную фигурку и услыхав его слабый голос. Кроме Карася я писал еще дядьку Гусева и дядьку Алексея, этюды с которых у меня сохранились. Из портретов товарищей уцелели Головачевский, впоследствии получивший некоторую известность в качестве поэта, и М.С.Щегляев, сын управляющего Мальцевскими заводами, наследовавший после смерти отца его должность.
Я писал и несложные натюрморты, имевшие также успех.
Слава моя росла не по дням, а по часам не только на лицейской территории, но и за пределами ее, почему я отважился просить гувернера нашего класса, француза мосье Тастевена, мне позировать. Мы его очень любили, он был вежлив и приветлив, никого не наказывал, был страстным театралом и сам прекрасно пел. Тембр его голоса, высокого тенора, был необычайно приятен и нежен, из той породы, которая носит название tenor di grazia - редкостный по красоте звука.
Я сам пел в нашем лицейском церковном хоре альтом, а после перелома голоса - тенором, считался лучшим певчим и исполнял все знаменитые соло "херувимских" и "тебе поем" Бортнянского, Турчанинова, Ломакина е tutti quanti, почему особенно любил и ценил мастерское пение Тастевена. Он это также ценил и отвечал мне взаимностью, ни разу не попрекнув меня за всю лицейскую жизнь моим злосчастным стипендиатством и бедностью. Он постоянно выступал на лицейских музыкальных вечерах и имел неизменный успех.
Каждый, кто издали слышал его обаятельный голос и умелую фразировку, рисовал его себе в виде стройного красавца, прекрасно сложенного, с грудью колесом и бывал несказанно разочарован, видя перед собой маленького, почти карликового сложения человечка. Только голова его была недурна, с французским горбоносым профилем, черными волосами и бородой a la Boulanger, какую носил популярный французский генерал, кандидат в диктаторы, бесславно кончивший жизнь самоубийством на кладбище. Я воспользовался большим овальным холстом на подрамке, давно валявшимся в художественной кладовой и явно кем-то брошенным, и написал в несколько сеансов портрет Тастевена в профиль, по пояс.
Он вышел чрезвычайно похож. Весь лицей сбежался смотреть на него, и потом все еще долго приходили им любоваться. Успех был головокружительный. Видя, что сам Тастевен очень доволен, а жена его была прямо счастлива, я подарил портрет ему. Какова же была моя радость, когда через несколько дней он принес одарил мне великолепный увраж in quarto, в кожаном переплете, с гелио-гравюрами последнего Парижского салона. Я без конца его рассматривал, учив в конце концов наизусть мельчайшие детали всех картин.
По тому времени картины были страшно знамениты, но теперь об их авторах забыл весь свет: Буланже - однофамилец генерала, Рафаэль Коллен и много других в таком же роде, среди которых даже Бугро сверкал ярким пламенем. Увы, прошел после этого год, и я к ним остыл, ни один из них меня больше не волновал, так как я видел уже лучших, действительно великих французских мастеров в собрании С.М.Третьякова: салонное искусство кануло для меня в вечность.
Тастевен не ограничился этим подарком, а сводил меня несколько раз в оперу Мамонтова, где тогда пели Мазини, Сигрид Арнольдсон, позднее Таманьо, Антонио и Франческо д'Андраде и Девойод. От счастья у меня дух захватывало. Так, как пел Мазини, не пел после него уже никто, не исключая и Карузо. Самый звук его голоса, феноменальное искусство, с которым он им владел, легкость, небрежность, отсутствие каких бы то ни было усилий или тревоги за верхнее до диез были потрясающими и незабываемыми. И если бы не Тастевен, я не слыхал бы его в эпоху расцвета.
Тастевену было нетрудно сделать мне подарок: его два брата служили у французского книгопродавца Готье, имевшего магазин на Кузнецком мосту. Оба они так много сделали для его книжного и издательского дела, что они, особенно старший из них, были почти хозяевами магазина, который Готье впоследствии передал в их полную собственность. Став хозяевами дела, они пригласили к себе и брата Эдмонда, который ушел из лицея. Но все это было уже после того, как я окончил здесь учение и поступил в университет.
Братья были сыновьями французского солдата, застрявшего в России после Севастопольской кампании. Он служил в лицее с его основания в качестве гувернера и уже значительно позднее устроил туда и сына Эдмонда. Я еще застал в 1882 году старика, прозванного Носорогом. Прозвище было метким. Действительно, было нечто носорожье в его шершавой, плотной и, казалось, толстой коже красного лица, особенно в сморщенной багровой шее, и еще более в его огромном горбатом носу, похожем на рог.
У него были седые, смазанные фиксатуаром и торчавшие штопором усы, середина которых закрывалась богатырским носом. Когда его толстые, выпяченные губы шевелились, острая, тоже нафабренная эспаньолка смешно ездила во все стороны.
Перед приходом учителя он стоял, вытянувшись у дверей класса и, завидя его издали, зычным голосом, заглушавшим гомон всех тридцати мальчиков, произносил загадочные для нас слова: "Avoran!" Этот возглас мы принимали за незнакомое французское слово, отвечающее нашему "смирно!", и только много лет спустя, вспоминая о Носороге, я неожиданно для себя открыл, что это означало: "a vos rangs!" - "по вашим местам!"
Носорог, простой солдат, был, конечно, не очень учен и едва ли прочел на своем веку более десятка книг, но сыновья были образованны и культурны. Сравнительно больше сведений имел другой гувернер-француз, мосье Булье, которого в младших классах просто обожали за веселые рассказы. Еще ниже ростом Эдмонда Тастевена, он, благодаря непропорционально большой голове и крупным чертам лица, но особенно благодаря длиннейшей, по пояс, бороде, сильно посеребренной сединой, производил впечатление настоящего карлика.
Неглупый и себе на уме, он отличался неистощимой фантазией и рассказывал про себя истории не хуже барона Мюнхгаузена, чем и снискал обожание малышей. Но и старшие дети слушали с удовольствием увлекательные повествования его богатой приключениями, но, конечно, сплошь выдуманной жизни. Хохот обычно стоял невероятный, все надрывали животы.
стр.1 -
стр.2 -
стр.3 -
стр.4 -
стр.5 -
стр.6 -
стр.7 -
стр.8 -
стр.9 -
стр.10 -
стр.11 -
стр.12 -
стр.13
Продолжение...
|