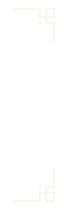|
Картины:

Туркестанские
яблоки, 1920

Груши на синей
скатерти, 1915

На озере, 1926
|
Автомонография Игоря Грабаря
Федор Михайлович уже через неделю заметил, что я стал читать более бегло и не путался в "лиезонах". Узнав, что я "завел француженку", он получил новый повод подшучивать надо мной, прося непременно принести ее фотографию. Фотография не заставила себя ждать: я получил ее через несколько дней с трогательными стихами Ламартина:
Сотте lejlot que le vent chasse
Et qui veint a nos pieds mourir,
Ainsi tout meurt et tout s'eface.
Tout, excepte le souvenir.
- Душенька, - обратился ко мне Федор Михайлович, налюбовавшись хорошеньким личиком с капризно поджатыми губками и прочтя стихи. - Вы должны тоже подарить ей фотографию и сочинить собственные стихи. Она - из Ламартина, а вы - свои.
И усевшись у камина, он продекламировал:
Toute la grace reunie
De la petite Leonie
Ne saurait ni bien ni mal
Luifaire un madrigal.
На следующий день я поднес мадемуазель Леони свою фотографию с этим нежным мадригалом. Конечно, она не сомневалась, что автором его был я, и мы еще более подружились. Я был даже немножко влюблен в нее, так как она была действительно очаровательна.
Так продолжалось около года, после чего она переехала на другую квартиру, и я потерял ее из виду. Лишь много лет спустя я узнал, что несколько офицеров-гвардейцев, бывавших иногда у ее квартирной хозяйки, заманили ее однажды на острова, подпоили и изнасиловали. Это известие меня так поразило, что я несколько дней не мог опомниться.
Я перестал ходить в "Капернаум", прекратил хождение и по бильярдным, которыми одно время сильно увлекался, достигнув больших успехов в игре в пирамидку. Я линял и менял шкуру. "Рубикон" был перейден, и я расстался с милейшим Романом Романовичем Голике, чтобы более к нему не возвращаться. Началась другая полоса, столь тесно связанная с именами Маркса, Грюнберга, Лугового (издателя, управляющего конторой и редактора "Нивы"), что в моих воспоминаниях им должно быть уделено видное место. Всех их давно уже нет в живых, но память о них до сих пор жива в моем сердце. Самые сердечные строки я считаю своим долгом отвести здесь Юлию Осиповичу Грюнбергу.
Уже в первое мое посещение редакции, на Невском, я был несказанно тронут его исключительно внимательным и дружелюбным отношением к моему рисунку. В дальнейшем его расположение росло изо дня в день и вскоре превратилось в дружбу, оборванную только его ранней смертью. Он умер в 1899 году после неудачной операции аппендицита.
Среднего роста, худощавый, с небольшой круглой бородкой, он сидел за своим огромным письменным столом, заваленным бумагами, умея в одно и то же время делать резолюции на бумагах утренней почты, давать распоряжение финансового, типографского и хозяйственного порядка и тут же любезно разговаривать с сотрудниками и другими посетителями. К нему лезли со всякой чепухой, но он каждого деликатно направлял куда следует, сохраняя спокойствие и хорошее настроение. Ничто не могло его вывести из себя.
В то время управление таким огромным предприятием было делом неизмеримо более сложным, чем теперь: не было пишущих машинок, и приходилось либо самому писать, либо, в лучшем случае, диктовать переписчику; не было телефонов, и все случаи, решающиеся сейчас в две минуты телефонными переговорами, требовали личных встреч и бесконечных деловых приемов. Юлий Осипович писал обычно сам, и это писание заставляло его засиживаться в редакции нередко до ночи.
Лично я ему обязан столь многим, что его образ запечатлелся в моем сердце в ореоле яркого света, не угасшего и до сегодняшнего дня. Благодаря большому опыту и природной чуткости, он сразу понял, что университет, юмористика и даже "Нива" - для меня только эпизоды, а мое основное, главное, цель моей жизни - искусство. Поэтому он, как и я сам, смотрел на "Ниву" только как на средство моего заработка и делал все от него зависевшее, чтобы расположить ко мне издателя Маркса.
Моя пустяковая статейка о столетней годовщине взятия Измаила всем так понравилась, что мне стали давать писать тексты к картинкам. Писались они до того времени механически, скучно, писались сотрудниками, не имевшими элементарных сведений по старой и новой живописи и, главное, нисколько ею не интересовавшимися, а стряпавшими 20-50 строчек, комбинируя их по словарю. У меня сведений было хоть отбавляй. В первый же раз, когда понадобилось срочно дать несколько текстов к рисункам и я должен был тут же в редакции присесть за стол и их писать, я сделал это в полчаса, не заглядывая в справочники.
Это произвело большой эффект, и я специализировался на таком писании, отказываясь только от картинок Грюцнера, Дефреггера и тому подобных художников, тексты к которым можно было переводить из немецких журналов. Нужно было писать вообще о том художественном материале, который составлял главное содержание "Нивы", - о любимцах мещанских гостиных, поставщиках олеографий.
Как я ни старался хоть несколько переключить "Ниву" на более приличные художественные рельсы, мои тайные мечты и хитроумные планы разбивались о личный вкус Маркса, считавшего идеалом немецкий "уютный", "семейный" журнал "Gartenlaube". И все же упорно и медленно, тихой сапой, мне понемногу удалось внести - правда, в самой скромной дозе - освежающую струю в подбор картинок из иностранных журналов и с русских выставок. На страницах чопорной "Нивы" постепенно стали появляться художники, которые за несколько лет перед тем и мечтать не могли о такой "чести". Тексты тоже значительно изменились, и к середине 90-х годов В.В.Стасов, встретившись с Марксом на Передвижной выставке, крикнул своим зычным голосом на весь зал:
"Вам тут нечего делать, Адольф Федорович, ведь тут декадентских картин не бывает, а в "Ниве" давно уже свили гнездо декаденты".
Спустя некоторое время после моего первого знакомства с Юлием Осиповичем подошла Масленица и он позвал меня к себе на блины. Узнав поближе его семью, я так с нею сблизился, что вскоре стал здесь своим человеком и чувствовал себя у Грюнбергов, как в своем домашнем кругу. В их квартире висело несколько вещей Серова, в том числе портрет хозяйки дома, Марии Григорьевны Грюнберг. В.А.Серов жил одно время в этой семье, как родной. Незадолго до моего появления в Петербурге он написал в этой именно квартире, в доме Жербина на Михайловской площади, известный портрет своего отца А.Н.Серова, находившийся еще там, когда я пришел на блины.
Он поразил меня своей жизненностью, полной безыскусственностью и мастерством, с каким была написана вся обстановка комнаты - конторка, на которой композитор что-то писал, облокотившись, предметы на ней, висящие сбоку афишки и другие детали. Этот замечательный портрет казался мне подлинным шедевром, превосходившим репинские. Мне страстно хотелось знать все подробности, как Серов писал своего отца, давно уже умершего. Все наперебой рассказывали мне, как он в грюнберговской зале устроил уголок, точно воспроизводивший обстановку серовского кабинета, как написал, сначала в мастерской Репина, этюд для головы отца с актера Васильева, очень походившего на Серова-отца, а потом писал фигуру с Юлия Осиповича. Все эти подробности меня глубоко интересовали и волновали.
стр.1 -
стр.2 -
стр.3 -
стр.4 -
стр.5 -
стр.6 -
стр.7 -
стр.8 -
стр.9 -
стр.10 -
стр.11 -
стр.12 -
стр.13
Продолжение...
|