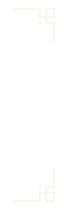|
Картины:

Туркестанские
яблоки, 1920

Груши на синей
скатерти, 1915

На озере, 1926
|
Автомонография Игоря Грабаря
Как только он приезжал, подавался чай и до чтения он рассказывал какие-нибудь новости или говорил об интересной встрече в клубе. После этого быстро прочитывали газеты и переходили к "делам". Если они были «тоненькие», оставалось вдоволь времени для чтения какого-нибудь интересного низведения - французского романа, французской или немецкой книги логического, юридического, экономического или философского содержания.
Часто приходилось читать книги, недоступные для простых смертных, приносившиеся или присылавшиеся Победоносцевым, с которым со времен их совместной профессорской деятельности в Московском университете Дмитриев продолжал сохранять хорошие отношения, расходясь с ним во взглядах политических. Так прочли мы запретную историческую новинку - историю Екатерины II Бильбасова, в которой впервые документально доказывался факт насильственной смерти Петра III и безмолвного участия в ней Екатерины.
Так читали мы запрещенные книги Ренана, читали много вновь найденных статей Герцена, немецкие статьи Лассаля, письма Бакунина. Но самыми интересными были рукописи, не разрешенные к печатанию и приносившиеся в Манежный переулок редактором-издателем "Русской старины" М.И.Семевским. Мы прочли записки фаворита Екатерины II, де Санглена, значительная часть которых, наиболее пикантная, была цензурой вычеркнута.
Исключительный интерес вызвало чтение "Крейцеровой сонаты" в рукописи, доставленной также Победоносцевым. Ее не сразу разрешили печатать, и она ходила по Петербургу и Москве в списках, как за шестьдесят лет до того передавалась из рук в руки рукопись "Горе от ума". В таких случаях откладывались даже "дела", которые я прочитывал на другой день утром, если не было сенатского заседания. Дела читались не ежедневно, а только накануне заседаний; другие вечера уходили исключительно на литературные или научные чтения.
Однажды, когда мы только что прочли газеты, вошел Иван и доложил, что приехал Константин Петрович Победоносцев. Я встал, чтобы уйти, но Дмитриев жестом дал мне понять, чтобы я оставался, а сам пошел в зал встречать гостя. Я в первый раз видел грозного вельможу, о котором по Петербургу ходили самые фантастические рассказы. Победоносцев был похож на человека, непонятным образом сошедшего в наши дни с какого-то иллюстрированного журнала сороковых годов.
В манере говорить, держать себя, в движениях рук, повороте головы, в старомодной темной оправе очков было нечто не от нашей эпохи, чего я не замечал ни у одного из многочисленных сановников, виденных мною у Дмитриева.
Я сидел, молчал и только слушал. Победоносцев сообщил какие-то важные новости, которых сейчас не могу вспомнить. В дальнейшем речь зашла о Толстом и как-то встал вопрос, отдавали ли себе великие люди отчет о значении и величии их дел. Дмитриев высказал мысль, что великий человек - писатель, философ - eдвa ли сознает подлинную ценность того, что им создано; величие 3 нашем представлении вообще скорее сочетается со скромностью, нежели с самоуверенностью и самовлюбленностью, составляющими удел небольших людей.
Победоносцев нетерпеливым движением руки и отрицательным качаем головы дал понять, что он с этим решительно не согласен. - Ах нет, что вы? Не говорите. Да вот хоть Достоевский. Помню, я сидел как-то у себя в кабинете за срочным докладом, когда услыхал сзади себя торопливые шаги. Обернувшись, я увидел Достоевского, приходившего ко мне обычно без доклада. Он держал в руке рукопись, которою с силой хлопнул по столу и что есть мочи закричал: "Я написал гениальную вещь, перед которой бледнеет даже "Фауст". И, усевшись в кресло, начал читать "Легенду о великом инквизиторе".
Какая уж тут скромность гения?
Из других сановников я раза два видел у Дмитриева министра народного просвещения Делянова, но от этих посещений у меня не сохранилось сколько-нибудь любопытных воспоминаний. Из научных деятелей чаще других здесь бывал известный славист академик Владимир Иванович Ламанский, очень ценивший ум и широту взглядов Федора Михайловича. Он просиживал целые вечера в беседах с ним, и эти вечера дали мне много такого, чего я не мог получить в университете.
Но еще памятнее мне вечера, проведенные в Манежном переулке с Владимиром Соловьевым, наиболее частым гостем здесь. Соловьев был учеником Федора Михайловича и относился к нему с особенной нежностью и почтительностью. В свою очередь и тот его очень любил и не мог скрыть своей радости при его приходе. Он очень ценил его стихи, заставляя меня постоянно искать их в последних номерах "Вестника Европы". Почти всегда, когда бывал Соловьев, Федор Михайлович просил его прочесть какое-нибудь новое стихотворение, и Владимир Сергеевич никогда ему в этом не отказывал.
У меня было даже впечатление, что он иногда нарочно заходил в Манежный только для того, чтобы прочесть свои последние стихи человеку, мнением которого он несказанно дорожил.
Однажды произошел случай, запечатлевшийся у меня на всю жизнь. Владимир Сергеевич, прочтя новое предлинное стихотворение, строк в шестьдесят, вспомнил, что ему надо было куда-то ехать, и, извинившись, ушел. Стихотворение произвело на Дмитриева заметное впечатление. Он сидел перед камином, протянув к огню ноги, в глубоком раздумье, беззвучно шевеля губами, словно шепча что-то. Я сидел, не желая нарушать настроения, навеянного стихотворением. Так прошло минут десять.
Вдруг Федор Михайлович начал читать стихи, сперва тихо, как бы про себя, потом все громче и громче: он прочел наизусть, от доски до доски, пятнадцать строф соловьевского стихотворения, прочел выразительнее, чем сам автор. Мы весь вечер после этого просидели молча.
Федор Михайлович имел решающее влияние на формирование моих тогдашних литературных симпатий и вкусов. Я впервые понял по-настоящему Пушкина, беззаветно полюбив его, ставшего для меня выше всех мировых поэтов. У Дмитриевского камина я изучил всех современников Пушкина, научившись особенно ценить Баратынского, а из позднейших - Тютчева. Только благодаря Дмитриеву я понял гений Толстого и Достоевского.
Там же, у камина, я слушал его бесконечные рассказы из жизни старой Москвы и старого Петербурга. В пятидесятых годах он был личным секретарем великой княгини Елены Павловны, ездил с ней за границу, видал и знал всю литературную и артистическую публику, окружавшую ее в Ораниенбаумском дворце. Я впервые от него услыхал имена славных петербургских зодчих, которых до тех пор не знал: Росси, Стасов, Александр Брюллов, Монферран, Воронихин, Старое, Бренна, Кваренги, Ринальди, Растрелли. Передо мною открылась совершенно новая область, я стал приходить к нему до восьми часов - часам к четырем, чтобы, не отрываясь, читать всевозможные мемуары.
стр.1 -
стр.2 -
стр.3 -
стр.4 -
стр.5 -
стр.6 -
стр.7 -
стр.8 -
стр.9 -
стр.10 -
стр.11 -
стр.12 -
стр.13
Продолжение...
|