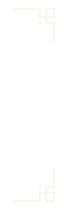|
Картины:

Туркестанские
яблоки, 1920

Груши на синей
скатерти, 1915

На озере, 1926
|
Автомонография Игоря Грабаря
О старом Петербурге и старой Москве. Он давал мне к ним множество дополнительных сведений, сдабривая их то эпиграммой Соболевского, то собственными стишками, рассказывая анекдоты и были. Интересом к старине я всецело обязан Дмитриеву, он же привил мне вкус к мемуарной литературе и архивным исследованиям, определив в значительной степени мои дальнейшие пути и перепутья.
В частности, он окончательно отравил мне вкус к юмористике. Боже, до чего пошлыми стали мне теперь казаться все мои литературные кропания и потуги на остроумие рядом с Соболевским и самим Дмитриевым! Он так изводил меня своим подтруниванием - вполне безобидным и добродушным - над разными "Стрекозами" и "Шутами", что я их возненавидел.
В первые же дни по приезде в Петербург я зашел к доктору Иосифу Степановичу Добрянскому, выдававшему себя за племянника моего деда, следовательно, за моего двоюродного дядю. На самом деле он был только его однофамильцем и ни в каком родстве с ним, кажется, не состоял, хотя ему и удалось почти убедить в этом мою мать. Он был галичанином, кончил медицинский факультет в Вене, приехав в Россию, жил одно время в Одессе и в конце 8о-х годов переехал в Петербург.
Высокого роста, элегантный, красивой наружности брюнет, с холеной круглой бородкой, он всегда одевался по последней моде, с особым, чисто венским привкусом. Ему было лет за сорок, и в Петербург он приехал с молодой женой - кажется, второй или третьей - крошечной хорошенькой брюнеткой-немкой, певицей, ни слова не говорившей по-русски и разучивавшей партию Татьяны в "Евгении Онегине".
Матушка перед отъездом из Измаила дала мне его адрес, взяв с меня слово, что я заеду к нему и к Ходобаю - сыну Юрия Юрьевича, бывшему уже обер-секретарем сената. К Ходобаю меня не тянуло, а к Добрянскому я решил зайти. Он принял меня, как "родного племянника", радушно и по-родственному сердечно; мы подружились и с ним, и с женой.
Здесь я встречал людей, вовсе не похожих на все мои новые петербургские знакомства: ни в университетских, ни в академических кружках, ни в среде юристов и литераторов, в которой я вращался, ни в Манежном переулке таких людей не было. Тут были все больше музыканты, музыкальные импресарио, какие-то дельцы зрелищных предприятий, музыкальные критики.
Днем Добрянский принимал больных, почти исключительно женщин - он был гинеколог, - а маленькая, толстенькая Мука, как ее звали муж и все друзья, заливалась сольфеджио и ариями Татьяны, Маргариты и Африканки, не обращая внимания на больных, из которых, впрочем, половина была здорова и приходила только из обожания к душке-доктору.
Из нетеатральных деятелей и немузыкантов здесь бывали только домашний врач графа Строганова А.А.Вагнер и художник Эрнест Карлович фон Липгардт, впоследствии хранитель Эрмитажа, тогда еще молодой, красивый, черноусый дамский кавалер, писавший с Муки головки для нимф на плафонах, сказанных ему фон Дервизом. Воздыхатели красавицы рассказывали, что Липгардт писал с нее далеко не одни головки.
Центральной фигурой в этом доме, каждодневным посетителем был венгерец Юлий Цет (Юлий Иванович), импресарио и представитель интересов П.И.Чайковского, возивший его концертировать по всей Европе и с ним очень друживший. Огромного роста полный сорокалетний блондин, с небрежной прической, одутловатым бритым лицом и густыми свисавшими над верхней губой усами, он был добродушен, остроумен, находчив, беспечен и неизменно жизнерадостен.
Будучи бескорыстен, он вечно нуждался в деньгах, отдавая другим все, что зарабатывал. Чайковского он обожал, считая, что его никто по-настоящему не понимает и что его оценят только после того, как его давно уже не будет в живых. Милый Цет был редчайшим типом импресарио, не нажившим ни копейки на своем концертанте и готовым отдать ему не только последнюю рубашку, но и свою жизнь.
Музыкальные издатели и критики приходили не столько к Добрянскому, сколько к Цету, которого в его номере, в гостинице, никогда нельзя было застать, ибо он дни и ночи проводил на Малой Итальянской, у Муки, у которой пользовался расположением.
Вечера у Добрянских были всегда оживленными: играли, пели, веселились напропалую. Цет и Липгардт были неисчерпаемо изобретательны на всякие шутки и балагурства. Липгардт мастерски умел рассказывать. Говорили здесь, из-за хозяйки, только по-немецки, а кто не умел, по-французски. Липгардт совершенно без акцента говорил по-немецки, по-французски, по-английски, по-итальянски и по-испански. Он был феноменальным полиглотом.
Самым блестящим из его вечерних номеров была имитация заседания какого-то международного конгресса. Он удалялся в соседнюю комнату и, меняя голос, манеру и все повадки, произносил соответствующие случаю речи на разных языках, то безукоризненно чисто, то смешно их коверкая. Можно было пари держать, что в соседней комнате не один человек, а десяток: все они кричали, спорили, бранились, перебивали друг друга - полная иллюзия беспорядочного сборища.
Иногда это было собрание акционеров какого-то фантастического международного общества стрижки баранов, в другой раз заседание членов конкурса по несостоятельности банкирского дома Нусинген и К0: Липгардт никогда не повторялся.
Однажды вечером, когда не было гостей, Цет привел Чайковского послушать исполнение Мукой партии Татьяны. У нее был красивого тембра бархатный голос и хорошая итальянская школа. Выступала она в концертах под фамилией Марокетти. Чайковский нашел ее исполнение превосходным, но только посоветовал взять более быстрый темп в сцене письма, особенно во фразе:
Нет, никому на свете
Не отдала бы сердца я,
То в вышнем суждено совете.
То воля неба, - я твоя.
Медея Мей обычно пела ее более замедленным темпом.
Когда поздно вечером мы уходили, Петр Ильич, узнав, что я живу в том же доме, где он, на углу Малой Морской и Гороховой, предложил мне пройтись от Малой Итальянской по Литейному до Невы и идти домой по набережной. Была чудная лунная ночь. Сначала мы шли молча, но вскоре Петр Ильич заговорил, расспрашивал меня, почему я, задумав сделаться художником, пошел в университет?
Я объяснил, как умел, прибавив, что я мог бы ему задать тот же вопрос - ведь он до консерватории окончил Училище правоведения и по образованию тоже юрист. Он только улыбнулся, но промолчал.
стр.1 -
стр.2 -
стр.3 -
стр.4 -
стр.5 -
стр.6 -
стр.7 -
стр.8 -
стр.9 -
стр.10 -
стр.11 -
стр.12 -
стр.13
Продолжение...
|