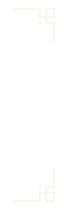|
Картины:

Последний снег

Ясный осенний вечер,
1923

Толстые женщины.
Гротеск, 1904
|
Автомонография Игоря Грабаря
Огни потушены. В комнате нестерпимая жара от множества народа, составившего над столом цепь из рук. Вдруг раздаются странные звуки: не то гитары, не то балалайки. Что-то в комнате задвигалось и застучало.
- Началось, - послышался шепот.
Под столом было особенно неспокойно. Видимо, дух пыжился изо всех сил материализоваться. Я решил, что настало время действовать, потихоньку высвободил свои руки от соседей справа и слева и, опустив их под стол, стал шарить. Через несколько минут я нащупал какую-то шкуру; провел руками по ее складкам, легко набрел на что-то твердое - не то темя, не то колено, которое шкура покрывала, и стал рвать ее к себе. Шкура не уступала, ее крепко держали, но возня была заметна, и через несколько минут я почувствовал сильный удар кулаком в спину, от которого вскрикнул и поднялся. Еще кто-то через мгновение зажег электричество, и все кончилось. Сеанс был сорван, вернее, был признан "не вполне удавшимся".
Как увидим в дальнейшем, Рерих не только остался на всю жизнь пребывать в оккультных эмпиреях, но впоследствии значительно усилил и усовершенствовал свои оккультно-трансцендентальные, потусторонне-практические приемы. В начале революции он бежал за границу, и к его дальнейшей судьбе мы еще вернемся.
Как только Серов приехал из Москвы, он с Дягилевым и Бенуа направился ко мне смотреть мои вещи. Грабаря-литератора и критика они знали и ценили, Грабарь-художник был для них загадкой, величиной неизвестной. Они ехали втроем в карете Дягилева, который не ездил на извозчиках, ибо до смерти боялся заразиться сапом в незакрытом экипаже. По дороге они гадали, что я собою представляю, и боялись разочарования. Со своей стороны и я не слишком был уверен в своих этюдах из Нары и боялся, не покажутся ли они моим строгим судьям провинциальными.
Каково было мое удивление, когда они в один голос начали их расхваливать, а Дягилев даже объявил, что это будет один из лучших номеров выставки, заранее поздравляя с успехом. Он прибавил:
- Да тут никто не умеет писать - все только "левитанят", а это до того осточертело, что хоть вон беги с выставки. Левитан - так, Левитан - сяк, а это совсем не то - наконец-то другое.
У меня отлегло от сердца. Я поверил в себя и принялся работать. Хотелось пописать Петербург. Но было сумрачно и не живописно. Я начал бродить по городу в поисках мотивов для передачи впечатлений по памяти. Случайно проходя вечером по Фонтанке мимо электрической станции, я был поражен неожиданно открывшейся передо мной картиной: на фоне дымчатых облаков и редких темно-синих провалов чистого неба, с горящей одиноко звездочкой, вздымались кверху четыре гигантские трубы, заслонившие, вместе с вырывавшимися откуда-то снизу клубами дыма, все здание станции; клубящийся дым был залит ослепительным светом электрических фонарей и придавал нечто фантастическое всей картине.
На другой день я написал по впечатлению поразивший меня вид, и он вышел как будто ничего - лучше, во всяком случае, чем фабрика в Наре, хотя последняя очень понравилась Серову, особенно оценившему знакомый ему мотив осенних предотлетных грачиных стай. Эти два фабричных мотива появились на выставке "Мира искусства", открывшейся в начале 1902 года в Пассаже на Невском. Кроме них я выставил все семь этюдов Нары и портрет мюнхенской натурщицы, взятый в полутоне, в красной накидке.
Вместо возвещенного Дягилевым успеха критика петербургских газет встретила меня насмешками и бранью, и "Новое время" и "Новости" возмущались "декадентскими" картинами, на которых вблизи ничего не разберешь. Дягилев торжествовал: ему ничего не нужно было, кроме газетной брани, в которой он усматривал несомненный успех.
Но среди художников успех был полный. Не только среди молодежи - даже кое-кто из старой гвардии похваливал, в том числе Куинджи и особенно приехавший из Киева старик В.Д.Орловский, долго стоявший перед моей стенкой и подошедший ко мне познакомиться.
- Вы не можете себе представить, - говорил он, - какое наслаждение для меня смотреть на эти живые и правдивые вещи.
Нарский этюд, названный мною "Луч солнца", был еще накануне открытия выставки приобретен Третьяковской галереей, вслед за которой немедленно другой зариант того же павильона "Уголок усадьбы" купил С.Т.Морозов, а "Балюстраду" - И.А.Морозов. Угол большого дома с балконом, заросшим диким красным виноградом, - "Подмосковная усадьба" - купил Щербатов, а маленький этюд служительского флигеля - П.П.Перцов. Я "расторговался", а главное, "попал в Третьяковку". Чего мне было желать еще больше?
Со времени выхода первого номера "Мира искусства" и устройства первой выставки этого журнала прошло тридцать пять лет, ровно столько, сколько прошло от эпохи "освобождения крестьян", "бунта 13-ти" и юношеских лет Репина до наших юношеских дней, до возникновения "Мира искусства". Тогда 60-е годы казались нам далекой исторической гранью, за которой уже маячили тени Александра Иванова, Карла Брюллова, Гоголя и самого Пушкина. Сейчас такой же стариной кажутся наши былые "труды и дни" поколению художников и искусствоведов, пришедшему нам на смену. И как нам в свое время было многое неясно и непонятно в делах шестидесятников, искусство которых было нам чуждо, так и современному поколению неясно, непонятно и чуждо многое из того, чем жили, что любили и что создавали мы. Художник более чуток и гибок, чем искусствовед, его глаза не столь безнадежно закрыты шорами, его мозг не столь предательски загружен историей, теорией и всякими предвзятостями, как у искусствоведа-профессионала, почему он лучше разбирается во всем, что касается качества и относительной значимости искусства недавнего прошлого. Если он жестоко несправедлив к только что отжившему этапу, к вехе, преодоленной путем борьбы, в которой он сам принимал участие, то искусство, имеющее тридцатилетнюю давность, находит в нем объективного и правдивого ценителя, ошибающегося меньше и реже, чем ценители-профессионалы.
Не только не написана еще история "Мира искусства", но даже не раскрыты причины его возникновения, его характер, роль, значение. Больше того - все, что писалось и пишется об эпохе "Мира искусства", не столько разъясняет, сколько затемняет и запутывает все эти вопросы.
Прежде всего, в корне неверен общепринятый взгляд на "Мир искусства" как на некий идеологический и эстетически единый фронт новаторски настроенной молодежи, противополагавшей рационализму передвижничества заимствованный с Запада символизм.
стр.1 -
стр.2 -
стр.3 -
стр.4 -
стр.5 -
стр.6 -
стр.7 -
стр.8 -
стр.9 -
стр.10 -
стр.11 -
стр.12 -
стр.13 -
стр.14 -
стр.15 -
стр.16
Продолжение...
|