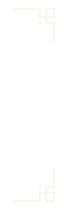|
Картины:

Последний снег

Ясный осенний вечер,
1923

Толстые женщины.
Гротеск, 1904
|
Автомонография Игоря Грабаря
Лучшие произведения Остроумовой - ее цветные деревянные гравюры. Изучив всесторонне японскую гравюру, она использовала многие из ее приемов в своих видах старого Петербурга и окрестных дворцовых парков, причем выработала свою собственную технику. Позднее она много работала акварелью и гуашью, ежегодно выставляя на "Мире искусства" серии пейзажей, обычно связанных с архитектурными мотивами - из своих путешествий по Италии, Испании, Франции, а также виды старого Петербурга. Они всегда отличались изысканным колоритом и удачным выбором точки. За время революции Остроумова-Лебедева почти всецело перешла на акварельно-гуашную технику.
Из графиков "Мира искусства" постоянно бывал в редакции Иван Яковлевич Билибин, бросивший живопись, которой он занимался в Мюнхене, и перешедший исключительно на рисование. Выработанный им стиль ярко персонален, хотя в нем и была некоторая доля механичности, что его самого временами смущало. Билибинские рисунки были оценены только после того, как приехавший с юга Георгий Иванович Нарбут, поступивший в университет и поселившийся в его квартире, начал ему неистово подражать. Разница между беспомощными, Мертвыми рисунками Нарбута, исполненными в том же "билибинском" стиле, и графикой самого Билибина была до того велика и не в пользу подражателя, что рядом с ним Иван Яковлевич казался мастером-исполином. Позднее Нарбут несколько выправился и даже выработал подобие собственного стиля, особенно четко выкованного им на Украине в дни Скоропадского и Петлюры. Из него пытались создать там тогда и позднее художественную фигуру огромного масштаба и всеукраинского значения, но это было продиктовано скорее соображениями политическими и ранней смертью Нарбута, нежели художественной ценностью всего его графического наследия.
Я ни слова не сказал до сих пор еще об одном графике "Мира искусства", особенно значительном и тонком, о Мстиславе Валериановиче Добужинском, упомянутом мною лишь вскользь при описании мюнхенских встреч. Я сделал это умышленно, ибо Добужинский появился на фоне "Мира искусства" позднее других.
Вернувшись из Мюнхена зимой 1901/1902 года и поселившись в Петербурге в одной из Измайловских рот, он зашел ко мне с несколькими графическими пробами - заставками и концовками, прося меня устроить их в "Мир искусства". Они были явно сделаны под стиль Бакста и Сомова - меньше под Лансере, - но отличались дряблостью штриха, неуверенностью линии, случайностью композиции и отсутствием того мастерства, которое одно убеждает и покоряет в графике. Я откровенно и дружески высказал ему свое мнение, прибавив, что в его рисунках ясно вижу кроме подражательности и черты собственного, персонального стиля, пока еще трудно определимые, но могущие путем упорной работы развиться в большое искусство. При этом я указал ему конкретно на самые слабые и самые сильные места, рекомендуя направить дальнейшие поиски по линии выработки большего мастерства и прежде всего твердости руки, прибавив, что ему будет выгоднее и почетнее выступить сразу мастером, чем учиться на страницах журнала, изживая свои промахи из номера в номер. Я приводил в пример себя, имевшего, как он знал, возможность давным-давно выступать на выставках за границей и в России, но удержавшегося от соблазна ранних робких выступлений, чтобы появиться уверенным в себе и своих силах.
Он был очень огорчен. Я это почувствовал, хотя он не проронил ни слова, во всем со мною согласившись. После этого он еще раза три-четыре заходил ко мне в промежутки в две-три недели, принося новые графические работы. Раз от разу они становились лучше, увереннее, мастеровитее. Последние были настолько очаровательны и столь персональны, что я оставил их у себя, сказав, что на днях у меня будут Дягилев и Бенуа, приступивший уже к изданию "Художественных сокровищ России", и я уверен, что они оба их вырвут у меня с руками - так они хороши.
Так и случилось: из пяти заставок и концовок три взял Дягилев, а две Бенуа, спорившие друг с другом, кому какие взять. В тот же день я был у Добужинского и поздравил его с блестящим успехом. Он торжествовал. Но особенно просияла его жена, милая Елизавета Осиповна, считавшая в глубине души, что я "Славу" отвожу от "Мира искусства" по каким-то непонятным соображениям. Мстислав мне в этом потом признался. Мне было стыдно смотреть в глаза этой чудесной женщине при одной мысли, что она так долго - целых полгода почти - считала меня предателем ее дорогого Славушки, такого талантливого и хорошего.
Он был действительно и тем и другим. Одновременно с графическими работами он стал усердно рисовать уголки старого Петербурга, не парадного, не Петербурга Федора Алексеева, Максима Воробьева и Остроумовой, а интимного, захолустного Петербурга окраин и закоулков, с мрачными дворами, пустынными кирпичными стенами, цветными заборами, снежными крышами, изборожденными кошачьими следами. Он рисовал и писал "Петербург Добужинского". Петербург серый, грязный, будничный, коренным образом отличающийся от Петербурга Бенуа и Остроумовой.
А человек он действительно прекрасный, хороший товарищ, верный друг, воспитанный, тактичный, деликатный. В театр он пришел значительно позднее и делает честь Художественному театру, что он угадал в Добужинском будущего мастера театра и угадал, какой театральный художник нужен ему самому для "Месяца в деревне" и "Где тонко, там и рвется".
Я до сих пор ничего не сказал о Серове, хотя он был, вне всякого сомнения, крупнейшей фигурой среди всех художников, группировавшихся вокруг "Мира искусства". Правда, он не был "мирискусником" типа мастеров, давших журналу и всему кружку его специфическое лицо, но его до того безоговорочно все ценили, что состоялось как бы безмолвное признание именно Серова главной творческой силой и наиболее твердой поддержкой журнала.
Каждый раз, когда Валентин Александрович Серов приезжал из Москвы - а он ездил в то время часто, - он, как я уже упоминал, останавливался у Дягилева,- почему его ежедневно можно было видеть в обычное свободное время в редакции. Когда я его встретил здесь в первый раз, он был занят в своей комнате работой над "Охотой Петра I", которую писал на картоне гуашью. Он никогда раньше за такие темы не брался, и я был приятно изумлен как композицией, так и колоритностью этой вещи. Одновременно он писал какие-то портреты, для которых главным образом и ездил в Петербург. Возвращаясь после сеансов домой, он охотно рассказывал о них, описывая заказчиков, часто зло, иногда с юмором. Говоря о концепции портретов, он вынимал из кармана небольшой альбом, бывший у него всегда с собой, и рисовал портрет. Многие из таких рисунков, сделанных при мне в разные годы, я узнавал впоследствии, просматривая все его огромное альбомное наследство. Их неправильно принимали и сейчас принимают за "первую мысль" знаменитых портретов. Иногда он давал в таких случаях только легкий очерк, иной раз увлекался и рисовал подробно, не замечая, как за чашкой кофе, где-нибудь у Кюба или Донона, страница заполнялась первоклассным тонким законченным рисунком.
Я слышал его рассказ о том, как, заказав ему портрет Александра III с семьей после крушения на станции Борки, харьковский предводитель дворянства добился того, что Серову разрешили стать на лестнице, по которой Должен был спускаться царь. Последний, зная о присутствии художника, тогда еще очень юного, намеренно задержался на минуту, замедлив шаг.
Серов рассказывал и о том, как ездил в замок Фреденсборг, в Копенгагене, чтобы писать после смерти Александра III его акварельный портрет, в мундире подшефного ему датского полка, на фоне замка. В мундире царя ему позировал высокий дворцовый гренадер. В окно глядела на него девочка, одна из Царских дочерей, которую он успел также написать. Портрет царя, скомбинированный с фотографий, вышел словно написанный с натуры.
стр.1 -
стр.2 -
стр.3 -
стр.4 -
стр.5 -
стр.6 -
стр.7 -
стр.8 -
стр.9 -
стр.10 -
стр.11 -
стр.12 -
стр.13 -
стр.14 -
стр.15 -
стр.16
Продолжение...
|