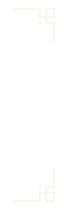|
Картины:

Последний снег

Ясный осенний вечер,
1923

Толстые женщины.
Гротеск, 1904
|
Автомонография Игоря Грабаря
Мы вместе с Дягилевым были на юридическом факультете Петербургского университета - он был курсом моложе, - но я его ни разу не видел в аудиториях. Он был тогда в консерватории, где учился пению. У него был красивого тембра баритон, и он часто пел в редакции, бывшей и его квартирой. Позднее он перешел на теорию и композицию и состоял учеником Н.А.Римского-Корсакова. Он даже написал оперу на тему, если не ошибаюсь, из русской истории, какую именно - не помню. Отрывки из нее он иногда наигрывал и пел.
В живописи Дягилев разбирался на редкость хорошо, гораздо лучше иных художников. Он имел исключительную зрительную память и иконографический нюх, поражавшие нас всех несколько лет спустя во время работ над устройством выставки русских исторических портретов в Таврическом дворце, 1Пл затеянной и им единолично проведенной.
Бывало, никто не может расшифровать загадочного "неизвестного", из числа свезенных из забытых усадеб всей России: неизвестно, кто писал, неизвестно, кто изображен. Дягилев являлся на полчаса, оторвавшись от другого срочного дела, и с очаровательной улыбкой ласково говорил:
- Чудаки, ну как не видите: конечно, Людерс, конечно, князь Александр Михайлович Голицын в юности.
Он умел в портрете мальчика анненской эпохи узнать будущего сенатора павловских времен и обратно - угадывать в адмирале севастопольских дней человека, известного по единственному екатерининскому портрету детских лет. Быстрый, безапелляционный в суждениях, он, конечно, также ошибался, но ошибался гораздо реже других и не столь безнадежно.
Заслуги Дягилева в области истории русского искусства поистине огромны. Созданная им портретная выставка была событием всемирно-исторического значения, ибо выявила множество художников и скульпторов, дотоле неизвестных, притом столько же русских, сколько и западноевропейских, среди которых был не один десяток мастеров первоклассного значения.
С дягилевской выставки начинается новая эра изучения русского и европейского искусства XVIII и первой половины XIX века: вместо смутных сведений и непроверенных данных здесь впервые на гигантском материале, собранном со всех концов России, удалось установить новые факты, новые истоки, новые взаимоотношения и взаимовлияния в истории искусства.
Все это привело к решительным и частью неожиданным переоценкам, объяснявшим многое до тех пор непонятное и открывавшим новые заманчивые перспективы для дальнейшего углубленного изучения.
Для того чтобы свезти в Таврический дворец весь этот художественный материал, насчитывавший свыше 6000 произведений, из которых не все можно было выставить даже в бесконечных залах дворца, Дягилеву пришлось в течение 1904 года изъездить буквально всю Россию. Освободившись от обузы "Мира искусства", вечного безденежья и выклянчивания денег на издание журнала, он засел за исторические журналы и мемуарную литературу, отмечая все те усадьбы, в которых можно было рассчитывать найти забытые произведения искусства.
В то время Дягилев прошел уже хорошую школу, выпустил свой капитальный труд - монографию Левицкого, написал блестящую статью о двух портретистах XVIII века, Шибановых, и подготовил ряд других исследований. Поездки по России и непрерывные историко-литературные занятия выработали из него исключительного знатока и почти безошибочного определителя картин мастеров XVIII и XIX веков. Но в 1901 году Дягилев еще не работал в этой области так интенсивно, как позднее, интересуясь больше модернистами.
На стенах его квартиры висели хорошо мне знакомые по прежним выставкам воспроизведенные мною и описанные в "Ниве" картины Бартельса, Дилля и других, к которым прибавились еще новые - иностранные и русские. В проходной комнате перед главным редакционным помещением стоял стол, заваленный последними книжно-художественными новинками, половину из которых я увидел впервые.
Тут были, в числе других, последние издания моих злополучных книжек Гоголя, вид которых заставил меня густо покраснеть: мне было невыносимо стыдно за этих моих давних первенцев, попавших волею судьбы в общую кучу с увражами Бёрдсли, Уистлера, Тулуз-Лотрека. Я возненавидел появившегося здесь несколько дней спустя Степана Петровича Яремича, с лукавым видом спросившего меня при всей честной компании, не мои ли это книжки, с такими "милыми" иллюстрациями?
Я готов был сквозь землю провалиться, видя в этом слове "милые" предел ехидства и толкуя не в свою пользу улыбки присутствующих. Я ответил довольно резко, что это грехи детских лет: скоро ведь десять лет как были сделаны эти беспомощные рисунки.
Я долго не мог забыть Яремичу его добродушного лукавства, сохранившегося до сих пор в качестве одной из основных черт его натуры. Позднее мы стали с ним друзьями, продолжаем быть ими и до сих пор, и я рассказываю этот мимолетный эпизод только потому, что все относящееся к первому времени моего знакомства с кругом "Мира искусства" памятно мне до последней степени, почти до стереоскопичности и осязательности.
О роли в "Мире искусства" Дягилева и Философова я давно уже знал, переписываясь с ними обоими из Мюнхена. Совершенно новой фигурой было для меня третье лицо редакции, с которым в этот первый мой визит меня познакомил Дягилев: Вальтер Федорович Нувель, человек небольшого роста, бритый, с усами, также лет тридцати. Он служил в министерстве двора и после службы ежедневно приходил в редакцию, где всегда бывал занят каким-нибудь делом. Он был образованный музыкант и заведовал музыкальным отделом.
Впоследствии Нувель был правой рукой Дягилева в Париже по организации русского балета и русских концертов. Умный и спокойный, он был до самой смерти Дягилева по линии музыкальной тем для него, чем был Философов по линии литературной.
Четвертое лицо, с которым я тогда познакомился, был Лев Самойлович Бакст. Я узнал его рыжую пушистую шевелюру и рыжие усы, красноватое, как у всех рыжих, лицо, с большим горбатым носом, в пенсне, с зелено-голубыми глазами, с пышно расчесанными усами: я видел это лицо и эту фигуру, слышал его картавый говор в редакциях юмористических журналов, где он рисовал иногда, подписываясь в то время своей настоящей фамилией - Розенберг.
Я не знал, что Лев Бакст, рисунками которого в "Мире искусства" я так восхищался, и есть Розенберг, карикатурист ниже среднего уровня, не имевший никакого успеха.
Что-то было в нем сейчас другое. Тогда он был бедно одет и казался замухрышкой; теперь он был щеголем, одет с иголочки, в лаковых ботинках, с великолепным галстуком и кокетливо засунутым в манжетку сорочки ярким лиловым платочком. Шевелюра Бакста тоже изменилась, сильно поредев и грозя вскоре обнажить темя. Он избежал этого только благодаря искусству парикмахера, вставившего ему через год подобие паричка, который с годами все увеличивался в размерах, значительно превысивши количество оставшихся собственных волос.
Он был кокет: его движения были мягки, жесты элегантны, речь тихая - во всей манере держать себя было подражание "светским" Щеголям, с их нарочитой свободой и деланной "английской" распущенностью.
стр.1 -
стр.2 -
стр.3 -
стр.4 -
стр.5 -
стр.6 -
стр.7 -
стр.8 -
стр.9 -
стр.10 -
стр.11 -
стр.12 -
стр.13 -
стр.14 -
стр.15 -
стр.16
Продолжение...
|