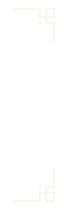|
Картины:

Последний снег

Ясный осенний вечер,
1923

Толстые женщины.
Гротеск, 1904
|
Автомонография Игоря Грабаря
В кожаном кресле у письменного стола сидел с "Новым временем" в руках еще один человек. Развернутая газета закрывала всю его фигуру. Дягилев познакомил меня и с ним: это был Василий Васильевич Розанов. Когда он опустил газету, то оказался обладателем огненно-красных волос, небольшой бороды, розово-красного лица и очков, скрывавших бледно-голубые глаза. Он был Постоянным посетителем редакции, редкий день я его не встречал там между четырьмя и пятью часами. Был он застенчив, но словоохотлив и, когда разговорится, мог без конца продолжать беседу, всегда неожиданную, интересную и не банальную.
Я ушел, когда и другие стали расходиться. Выйдя на набережную Фонтанки, я думал: как странно, двенадцать лет тому назад я на той же Фонтанке, только по другую сторону Аничкова моста, выходил в такой же осенний день и в тот же вечерний час из другой редакции, счастливый от сознания начинавшейся новой жизни, сулившей так много неиспытанных впечатлений и ощущений. И вот опять я выхожу из редакции, радушно встреченный и обласканный своими новыми товарищами. Что сулит мне эта новая моя полоса?
На следующий день и в ближайшие за ним я познакомился уже со всем кружком художников, сгруппировавшихся вокруг Дягилева и "Мира искусства": Александром Бенуа и Лансере; о Сомове, Остроумовой-Лебедевой, Билибине, Серове и Врубеле я уже не говорю, так как с ними был знаком раньше.
Центральной фигурой кружка был Александр Николаевич Бенуа. Помнится, я увидал его на другой день после моего первого посещения редакции, сразу узнав его по портрету Бакста, виденному мною в репродукции. Он резко выпадал из круга Дягилева и двух его ближайших сотрудников своей внешностью и манерами. В противоположность холеной, чисто "петербургской" внешности Дягилева, Философова и Нувеля, он был одет небрежно, рядом с ними даже казался неряшливо одетым: пиджак был помят, брюки не выутюжены.
Вместо лоснящихся, тщательно приглаженных причесок тех он носил относительно длинные волосы, явно не потому, что предпочитал этот тип шевелюры другому, а потому, что вовсе ею не занимался, и потому, что ему было, видимо, некогда возиться с вопросами туалета.
Вместо их чисто выбритых подбородков он имел небольшую бороду. Его пенсне как-то тоже по-иному держалось на его носу, чем пенсне Бакста: по-домашнему, не крепко, не составляя с носом одного неразрывного целого, наподобие строения центавра, как у того же Бакста. Он никогда не сидел прямо, как те, а всегда слегка сгорбившись, беспрестанно двигался и ерзал в кресле, дергался, смешно жестикулировал и кроил забавные гримасы, помогая своему рассказу.
Он мне сразу страшно понравился, больше всех, и это мое первое впечатление сохранилось у меня вслед за тем на всю жизнь. Помимо большого ума, исключительной даровитости и чрезвычайной разносторонности он был искренен и честен. Он был вспыльчив и способен на истерические выходки, если бывал чем-либо или кем-либо задет за живое и чувствовал себя правым.
У Бенуа много страстей, но из них самая большая - страсть к искусству, а в области искусства, пожалуй, к театру. Он и сам не раз мне в этом признавался. Театр он любит с детства, любит беззаветно, беспредельно, готовый отдать ему себя в любую минуту, забыть для него все на свете. Он самый театральный человек, какого я в жизни встречал, не менее театральный, чем сам Станиславский, чем Мейерхольд, но театральный в широчайшем и глубочайшем значении слова. Он хороший музыкант, прекрасный импровизатор на рояле, уступавший по этой части только своему брату, Альберту Николаевичу.
Владея французским и немецким языками, как русским, он перечитал на этих языках все, что только можно и нужно, по общелитературной и драматургической линии. Он, наверно, мог бы написать выдающуюся пьесу, но не написал ее только за отсутствием времени; его день был в течение всей жизни до отказа заполнен разными неотложными и всегда срочными делами: литературными, театральными, художественными, чтением, общественными нагрузками - устройством выставок, собраниями, заседаниями, спектаклями, концертами.
Обладая литературным талантом, он писал легко и занимательно, хотя в своих критических суждениях не всегда бывал беспристрастен. Его пристрастие исходило, впрочем, не от радения родному человечку, а из сочувствия одинаковому образу мыслей и чувств, родному направлению. Никогда он не сводил счетов с кем-либо, пользуясь влиянием в руководящих органах печати. Его дополнительная статья к "Истории живописи XIX века" Мутера была целым откровением для русского общества конца 90-х годов и прежде всего для русских художников.
Отдельные суждения и приговоры Бенуа были сразу приняты и оценены всеми, сохранившись незыблемыми до настоящего времени. Так, он именно впервые подорвал всеобщую веру в величие фигуры Поленова, низведя его до степени среднего художника академического типа, разоблачив всю пустоту его "Грешницы". С другой стороны, он первый обоснованно раскрыл все истинное величие Александра Иванова и всю значительность Сурикова. Правда, одновременно он недооценил Брюллова и переоценил Венецианова, еще более недооценил в свое время импрессионистов,
а за ними Сезанна, Ван Гога и Гогена, безмерно переоценив Леона Фредерика, Латуша, Котте и других третьестепенных французов, блиставших в салонах на рубеже XIX и XX веков, но многие ли вообще в то время отдавали себе отчет в сравнительной значимости всех этих явлений искусства?
Бенуа - блестящий рисовальщик, но рисовальщик не породы Хольбейнов, Энгров, Брюлловых или Дега, а скорее породы Домье, Менцелей и еще больше - Сент-Обенов. Он рисовальщик-изобретатель, рисовальщик-импровизатор. Ему стоит взять лист бумаги, чтобы вмиг заполнить его композицией на любую тему, всегда свободной, непрерывно льющейся и всегда имеющей нечто от заражающего и веселого духа барокко. Барокко и есть его самая настоящая стихия, унаследованная им от отца, такого же бесконечно изобретательного рисовальщика, и деда-архитектора Кавоса, а от него - от венецианцев XVIII века.
И немудрено: его родной дед, Бенуа, был метрдотелем Екатерины, сам он родился под картинами Гварди, привезенными Кавосами из своего венецианского палаццо, - они висели над его детской кроваткой. Вообще дух барокко он впитал в себя с молоком матери, урожденной Кавос, и вдыхал в себя со стен отцовского дома, на Екатерингофском проспекте, против церкви Николы Морского. Даже этот единственный вид из окон отцовской квартиры был видом на прекрасное произведение барочной архитектуры, бесспорный шедевр Чевакинского, ученика гениального Растрелли.
стр.1 -
стр.2 -
стр.3 -
стр.4 -
стр.5 -
стр.6 -
стр.7 -
стр.8 -
стр.9 -
стр.10 -
стр.11 -
стр.12 -
стр.13 -
стр.14 -
стр.15 -
стр.16
Продолжение...
|