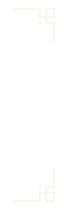|
Картины:

В саду. Грядка дельфиниумов,
1947

Хризантемы, 1905

Проходной двор в
Замоскворечье. Серый день,
1941
|
Автомонография Игоря Грабаря
Когда я прибыл, вся аудитория была уже полна слушателями, которых я насчитал до двадцати. Он познакомил меня со многими, имена которых мне были уже известны.
Когда мы уселись, Милле неожиданно для меня обратился ко мне с приветственным словом, смысл которого сводился к тому, что история византийской живописи своими достижениями последних десятилетий обязана главным образом Центральным государственным реставрационным мастерским в Москве,
открывшим уже и продолжающим открывать такие изумительные памятники искусства, о которых научный мир ранее и не подозревал. Он приветствует поэтому в моем лице основателя и бессменного руководителя этого учреждения, существующего только в Советском Союзе и нигде более. Я был до крайности сконфужен и не знал, что сказать, особенно когда заканчивая речь, Милле прибавил:
- Вы не подозреваете, m-r Grabar, как часто в этих стенах раздается ваше имя, и, чтобы вам это демонстрировать и сегодня, я позволю себе посвятить свою настоящую лекцию вашему последнему исследованию, присланному вами для юбилейного сборника в честь Шарля Диля.
И он изложил содержание моей статьи "О происхождении и эволюции типа "Умиление", написанной в Кёльне, согласившись со всей ее аргументацией и подкрепив ее еще некоторыми собственными соображениями.
Я сказал в заключение то, что считал себя обязанным сказать, что я не один создавал "Мастерские", а они созданы целым коллективом работников, которые будут очень счастливы узнать от меня о высокой оценке наших общих усилий со стороны ученых с таким мировым именем, как Габриэль Милле.
С его помощью я получил труднодобываемые визы в Бельгию и Голландию и в середине июня направился через Брюссель и Антверпен в Гаагу.
После Курбе, Милле, Мане я в музеях Брюсселя и Антверпена не пережил ни неожиданных, ни вообще из ряда вон выходящих художественных впечатлений. Нидерланды, кроме отдельных мастеров, вроде Питера Артсена и Бекелара, мало волновали, а у Рубенса я видал вещи гораздо более интересные в Ленинграде, Вене, Мюнхене.
Зато в Гааге меня восхитил свыше всякой меры Вермер Делфт. Я почти только для него ходил в музей. И когда из Гааги поехал в Амстердам, то и здесь часами простаивал не перед Рембрандтом, а перед тем же Вермером.
Чистейшей воды реалист, он, ему одному ведомыми чарами искусства, умудрялся давать в своих маленьких жанровых картинах не просто "галантные сцены", как Мирис или Терборх, а некое прекрасное видение природы, не прикрашивая последней и строго передавая все жизненные черты предметов и людей.
Я поехал в Голландию, отчасти чтобы увидеть как можно больше именно его вещей, но, главным образом, чтобы во второй раз побывать в Харлеме, где, как я знал из специальной литературы, знаменитые картины Франса Халса, виденные мною в 1909 году почерневшими и загрязненными, только что были отреставрированы.
Раз попав в Харлем, я уже не мог отсюда скоро выбраться. Прежде групповые портреты Халса были разбросаны по разным учреждениям, теперь они собраны в одном месте, в специально созданном музее Франса Халса. Они действительно оказались все промытыми и расчищенными от позднейших записей и стали неузнаваемы.
Живопись Халса на этих картинах очень напоминает живопись Мане и до последней степени современна. Только мастерство Халса еще выше мастерства Мане. Просто непостижимо, как этот человек умудрялся бросать на холст десяток-другой живых людей, заставляя их там вечно жить той же бьющей ключом веселой, радостной, здоровой жизнью.
Они смеются, пьют, чокаются, что-то горланят, поют песни, эти стрелки, такие же живые, как были в действительности. Мне стало ясно, что Хале - не старый мастер, как другие, как все, кроме, быть может, Веласкеса, а новый, Наш, видящий и чувствующий, как видим и чувствуем мы.
С запасом этих впечатлений я возвращался в Москву. У меня была уже виза в Италию, куда я ранее предполагал ехать, но теперь мне более не хотелось ходить по музеям. Надо было переработать и суммировать все виденное, постараться извлечь из него то, что было полезно и нужно для моего собственного творчества.
Но для последнего было необходимо освободиться от администрирования и всяких служб, чего я в ближайшем году и достиг, став наконец снова тем художником и только художником, которым был в первые годы бесперебойной работы в деревне, - в 1904-м и 1905 годах.
Я давно уже считал себя по преимуществу портретистом. В детские годы, в лицее, в университете, в академии, в Мюнхене - всюду больше всего занимался портретом, который давался мне легко и выходил лучше всего другого.
Только попав после многих лет из-за границы в Россию, я так был очарован ее пейзажем, дотоле мало мною оцененным, что всецело ушел в него. Но и после этого я с портретом не порывал, отдавая ему постоянную дань, хотя выставлять портреты приходилось редко.
В Харлеме я, как боевой конь при звуке трубы, почувствовал перед холстами Халса проснувшуюся страсть к портрету, интерес к человеку, долго заслонявшийся увлечением природой.
Как никогда прежде, я понял в Харлеме, что высшее искусство есть искусство портрета, что задача пейзажного этюда, как бы она ни была пленительна, - пустячная задача по сравнению со сложным комплексом человеческого облика с его мыслями, чувствами и переживаниями, отражающимися в глазах, улыбке, наморщенном челе, движении головы, жесте руки. Насколько все это увлекательнее и бесконечно труднее!
Всюду, где я бывал, я наблюдал людей - веселых и хмурых, беспечных и озабоченных, бесхитростных и лукавых, стараясь разгадать их явную и затаенную психику. Я решил поступить так, как поступал раньше, готовясь к сложным живописным проблемам, - решил упражняться, упражняться и упражняться.
Но тогда мне было достаточно сделать десяток натюрмортов, чтобы размять руки, а теперь нужно было переходить на гаммы и экзерсисы голов. И я пустился добывать свободу портретной кисти при помощи таких именно портретных гамм. Позировали все свои в свободные часы и дни; потом пошли чужие.
Зайдя как-то к знакомому, занимавшемуся на досуге от службы живописью, я был очень озадачен, когда, отворив на звонок дверь, он впустил маленькую пеструю женщину, похожую на заморскую птичку. Брюнетка, южного типа, она была изрядно накрашена и набелена, а вместо бровей имела какие-то тонкие не то наклеенные, не то нарисованные черные полоски.
Хозяин, заметив, что она меня заинтриговала, тут же уговорил ее мне позировать, и я на другой и третий день в два сеанса написал ее портрет в красной кофте, с белым шарфом на фоне ярко-синих обоев ее квартиры. Она оказалась аргентинкой, воспитанной в Париже, полупарижанкой.
С этого портрета пошли все остальные. Я ежедневно писал в светлые часы, чувствуя, что от портрета к портрету крепну, что каждый следующий в какой-то мере лучше предыдущего, дается легче, скорее, характеристика острее, живопись свободнее.
стр.1 -
стр.2 -
стр.3 -
стр.4 -
стр.5 -
стр.6 -
стр.7 -
стр.8 -
стр.9 -
стр.10 -
стр.11 -
стр.12 -
стр.13 -
стр.14 -
стр.15 -
стр.16
Продолжение...
|