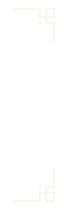|
Картины:

В саду. Грядка дельфиниумов,
1947

Хризантемы, 1905

Проходной двор в
Замоскворечье. Серый день,
1941
|
Автомонография Игоря Грабаря
Я никогда не считал, что быстрота в писании портрета есть нечто заменяющее качество. Серов писал портреты по тридцати, пятидесяти и восьмидесяти сеансов, и едва ли его можно серьезно упрекать в медлительности и ненужной кропотливости. Но в то же время я понимал, что при равенстве прочих условий хорошего портрета быстрота - вещь не плохая, особенно ценная в наши дни фантастических темпов, когда ни у кого нет времени посидеть больше двух-трех раз для портрета. Кроме того, я знал, что как раз самые мои любимые портретисты - Веласкес и Хале - писали быстро, в сеанс, много - два.
Таким образом, быстрота есть все-таки немалое достоинство.
Но быстрота, кроме того, действительно важное преимущество: погода не постоянна, а с ней изменчиво и освещение модели; и сам человек сегодня не совсем тот, что вчера, в чем-то другой, менее живой, желтее или серее, обыденнее, скучнее. Все это мешает, надо постоянно менять и переделывать, если не уметь ловить быстро, схватывать на лету.
Я удвоил усилия, чтобы добиться быстроты письма, но, делая портреты в два-три сеанса, одновременно писал и более длительно - по шесть-семь и даже десять сеансов.
В конце апреля 1930 года я написал последний портрет своей матери. Она умирала от рака в возрасте 87 лет. Большею частью она дремала, но иногда, на час с небольшим, приходила в себя и, полулежа на подушках, смотрела вперед своими страдальческими глазами. Я уловил как-то такой момент и в течение получаса с небольшим набросал на старом холсте - неудачном зеленом пейзаже - "Голову умирающей".
Недели через три она умерла.
Набросок этот я ценю не только как драгоценную память о бесконечно дорогом и близком мне человеке, но и как счастливо удавшееся решение поставленной задачи - сделать с максимальной быстротой портрет, передающий основную суть облика человека и смысл цветовой гаммы головы и окружения при наивозможной простоте трактовки.
В том же 1930 году я написал ряд портретов, из которых более удачны - брата, жены в шубе, профессора Этторе Ло Гатто и П.И.Нерадовского. Последний писан в два сеанса; я считал его неоконченным, но третий сеанс не мог состояться, и его пришлось оставить в этом виде. Лучшие портреты следующего года - сестры жены, М.М.Мещериной, профессора Винклера и Г.О.Чирикова.
Все эти портреты я писал крупнее, чем в натуральную величину. Мне казалось, что наряду с портретом интимным в наши дни должен быть выработан и другой портретный тип, монументальный, не теряющийся на наших больших выставках и в музеях, хорошо видный на расстоянии.
Портреты, писанные в натуру, в музеях как-то досадно мелки. Они казались мелкими и Тинторетто и Рубенсу, охотно писавшим больше натуры.
Кроме того, мне казалось, что, поскольку мы, портретисты, передаем не только облик нашей модели, но и расстояние, отделяющее нас от нее, и воздух между нею и нашими глазами, портрет, писанный в величину натуры, будет, естественно, тем самым еще уменьшен для глаз зрителя. Отсюда мое стремление увеличить натуру. Но нужно соблюдать чувство меры, желательна только такая степень увеличения, при которой зритель принимает портрет за написанный в величину натуры. В портрете Чирикова я перешел эту границу.
Рассматривая два десятка портретов, сделанных за 1930 и 1931 годы, я пришел к заключению, что в них есть тот основной грех, который свойствен всем нам, художникам. Каждый из нас почти всегда - исключения редчайши! - исходит от какого-либо образца, в данное время наиболее ему любезного, от мастера, владеющего сегодня его думами и чувствами. Иногда он длительно пребывает в плену мастера-избранника, иногда вчерашний мастер сменяется сегодняшними, чтобы завтра уступить место новому.
Выражаясь вульгарно, мы "танцуем от печки": вчера от печки старого мастера, сегодня - Мане, завтра - Сезанна. Как это ни обидно для нашей индивидуальности и еще более для самолюбия, но это - непреложная истина, надо только со всем бесстрашием заглянуть в глубину своего творческого "я", чтобы в этом не оставалось сомнения.
Если в импрессионистических пейзажах я исходил из системы Клода Моне, хотя и сильно видоизмененной, то в портретной серии трудно определить, от какой "печки" я в них танцую. Только в отдельных чертах что-то улавливаешь, но и то не столько нащупываешь то или другое имя - этого как будто нет, - сколько вообще ловишь себя на "приемах": "танцевание от печки приемов".
И вот со всей решительностью передо мною встал вопрос: а нельзя ли вообще не танцевать от печки, нельзя ли так взглянуть на натуру и так ее увидеть, чтобы зрителю не бросались в глаза ни приемы, ни мастерство, ни даже живопись, но чтобы он просто почувствовал дыхание жизни, трепет жизни, красоту жизни.
Я начал искать в этом направлении, памятуя завет Чайковского, что настойчивостью и упорством можно все преодолеть. Чего-чего, а упорства у меня хоть отбавляй.
В I932 году зашел ко мне Н.А.Клюев, поэт, которого я знал еще в Петербурге лет двадцать назад.
Через несколько дней я уже написал его портрет, бывший первым пробным камнем в этом моем новом направлении. Одновременно я продолжал начатый за год до того портрет д-ра Штельцера, ведя его в прежнем живописно-формальном плане. Он мне также удался, но оба портрета в корне различны, различны по основной установке и отношению к натуре, ибо во втором ясно чувствуются отзвуки прошлого, а портрет Клюева глядит вперед.
Эту же задачу я пробовал решить, каждый раз по-разному, еще на двух портретах - брата моей жены В.М.Мещерина и академика Н.Д.Зелинского. Первый был в отпуску и мог мне долго и хорошо позировать. Мне хотелось передать его существо также без всяких подходов и приемов - так, как я его чувствовал, хотелось мне передать и устремленный вдаль взгляд. Мне это казалось тем легче, что последние свои портреты я писал уже значительно иначе в смысле лепки, чем писал раньше и чем вообще это принято. Об этом я должен сказать несколько слов.
Лепка, моделировка формы, осуществляется в живописи при помощи светотени, путем выискивания в натуре постепенных переходов от света к тени. Основа лепки, рельефа на плоскости есть белое и черное, со всеми их градациями.
Обычно тот же принцип проводится и в живописи: живописец лепит [форму] то более темными, то более светлыми красками. Между тем давно известно, что впечатление большей или меньшей темноты различных красок может быть достигнуто не только при помощи световой градации красок, но и посредством цветовой градации.
Если мы на простой неортохроматической пластинке сфотографируем портрет человека в светлой ярко-красной рубашке, с темно-синим галстуком на ней, то мы получим как раз обратное соотношение: рубашка выйдет черной, а темный галстук - светлым. Что это значит? Это значит, что можно лепить форму не только черным и белым или светом и тенью, но и цветом - более интенсивными и менее интенсивными цветами.
стр.1 -
стр.2 -
стр.3 -
стр.4 -
стр.5 -
стр.6 -
стр.7 -
стр.8 -
стр.9 -
стр.10 -
стр.11 -
стр.12 -
стр.13 -
стр.14 -
стр.15 -
стр.16
Продолжение...
|