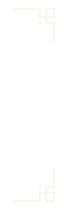|
Картины:

В саду. Грядка дельфиниумов,
1947

Хризантемы, 1905

Проходной двор в
Замоскворечье. Серый день,
1941
|
Автомонография Игоря Грабаря
После этого портрета-картины я написал в октябре 1935 года еще только два портрета Героев Советского Союза - летчиков М.В.Водопьянова и А.В.Ляпидевского, которых я пытался взять, по возможности избегая трафаретной трактовки обычного заказного портрета. Два характерных и в корне различных темперамента давали для этого богатый человеческий материал, а сочные аксессуары подсказывали живописное решение.
В декабре 1935 года мною написан еще портрет дочери в красном платье и второй портрет Е.Г.Никулиной, в рост.
Я не в состоянии точно сформулировать, куда сейчас иду, но чувствую, что иду верной дорогой, которую давно искал, но которая была заметена всякими житейскими и художественными вьюгами. Знаю, что еще не скоро вершина, с которой откроются заманчивые дали, но твердо знаю, что я уже на перевале и нужна только настойчивость, чтобы преодолеть последние препятствия для достижения своей цели.
Цель эту не так легко определить словами. Могу пояснить ее только жизненным наблюдением. Я стою в толпе, двигающейся в тесноте и спускающейся с лестницы в театре. Случайно оглядываюсь и скорее чувствую, чем вижу у самой своей головы другую голову, прекрасную, живую, дышащую, водящую глазами. Как эта голова не похожа на все головы на свете, когда-либо написанные, на все головы истории живописи!
Ни у Рафаэля, ни у Тициана, ни даже у Веласкеса и Халса таких голов, как эта, нет. Если бы хоть частицу этой неуловимости уловить и непостижимости постигнуть, то больше ничего и не надо. До последней степени просто, без фокусов и туманов, а главное - без всяких освященных преданиями живописных приемов.
Перейдя на портрет, вернее вернувшись к нему, я не забросил окончательно пейзажа, который шел параллельно, переживая стадии, отвечавшие портретным, и отражая общие тревоги и сомнения автора.
Значительной вехой была ранняя весна 1931 года, когда я на две недели уехал во Влахернскую, по Савеловской дороге. Это недалеко от дачи С.В.Иванова, столь восхитившей меня в 1903 году своим расположением. Оттуда я привез ряд этюдов, из которых лучший - "Последний снег". Он приобретен в I932 году Третьяковской галереей. За год до этого лучшим пейзажем была "Заводь", приобретенная Русским музеем.
Перелом, совершившийся по линии моих портретных исканий, естественно должен был сказаться и в пейзажах. Он наметился в небольшом этюде "Первая проталина", написанном в апреле I932 года, в котором мне хотелось так же просто, как и в "Светлане", передать тему: первое дуновение весны, начало таяния, первые лужи в колеях дороги, темный лес и далеко уходящее небо. Но это был только намек.
Нечто большее удалось выразить в холсте "Иней в Москве", писанном в январе 1934 года как этюд из окна и изображающем нескладный, но милый переулок уходящей Москвы в солнечный день инея во второй половине дня.
Он вырос в картину путем и сам не знаю каких средств, как не знаю, почему "Светлана" превратилась из самого обыденного этюда, каким была задумана, тоже в нечто значительное, как в нечто еще более значительное вырос портрет Е.Г.Никулиной. В "Иней" и "Светлану" вложено чувство, близкое к тому, что вылилось у меня некогда в "Сентябрьском снеге" - налет поэзии, теплого отношения, внимания и нежности к теме, которая никогда не дается холодному рассудку и формальному подходу.
В июле 1935 года в "Узком", после целодневной работы над портретами академиков, я под вечер шел к славному верхнему прудику. Стояли солнечные дни, была тишина, и дивные парковые деревья отражались в воде, как в зеркале. Хотелось передать одновременно и чувство художника, задетого гармонией целого, и чувство обывателя, потрясенного ощущением невозмутимого деревенского покоя. Тогда же написал и пейзаж "Между колонн".
Не знаю, что готовит день грядущий, но я верю в него и надеюсь на него, как верил и надеялся в 1903 году, когда так же четко стояла передо мною поставленная задача и так же ясно предносились взору очертания ее наилучшего решения.
Работая над портретами и не бросая пейзажа, я все эти годы продолжал работу над картиной "Ленин у прямого провода". Вначале она мне никак не давалась: не выходили ни Ленин, ни вся сцена вообще, ибо не было стержня, вокруг которого я мог бы развернуть ленинскую тему.
Сидящий или стоящий Ленин, слушающий, читающий или диктующий телеграмму у прямого провода - все одинаково хорошо и одинаково плохо: в лучшем случае - добросовестно выполненное "казенное" задание, в худшем - сносная раскрашенная фотография. Было над чем призадуматься. Я не отчаивался, но понял, что написать картину к сроку невозможно сколько-нибудь прилично, почему от этого пришлось отказаться.
Картины я все же не бросил, напротив, - тут только, после отказа от сдачи к сроку и фактической ликвидации заказа, я начал входить во вкус. После некоторого перерыва я вновь и вновь стал расспрашивать о всех подробностях этих ночных бесед Ленина с фронтами. Оказалось много возможных решений и в числе их несколько интереснейших для картины.
Я отдавал себе отчет в том, что моя тема не просто жанр, не случайный эпизод, а историческая картина. Не о пустяках же говорил Ленин с фронтами во время всяких интервенций с севера, востока, юга и запада, говорил ночи напролет, без сна и отдыха, давая передышки только сменявшимся по очереди телеграфистам. Совершались события всемирно-исторического значения, в центре которых был Ленин. Как же его дать? Как показать?
В каком плане?
Я был уверен, что в ночной обстановке, под утро, Владимир Ильич был в помятом костюме, в ночной сорочке, может быть в туфлях.
Ничего подобного. "Ильичу была органически противна всякая неряшливость - в жизни, обстановке, костюме, - говорили мне. - Всегда был опрятно одет, в дневной сорочке, при галстуке, в штиблетах".
Как происходили ночные переговоры?
По-разному. Ленин обычно брал клубок бесконечной ленты, прочитывал ее и, бросив на пол, начинал диктовать, прохаживаясь по комнате и останавливаясь перед аппаратом и телеграфистом в моменты, требовавшие наибольшей сосредоточенности и внимания. Засунув руку в карман, он другой жестикулировал, подчеркивая указательным пальцем важнейшие места.
Секретарь поднимал брошенную ленту и пробегал ее, чтобы запротоколировать содержание телеграммы. Стол с аппаратом стоял у окна, против которого у другой стены коридора стоял старый "ампирный" диван с фигурой уставшего, спящего мертвым сном телеграфиста. Последние были юноши военного типа, в кожаных куртках и галифе.
Ленин никогда не раздражался и был спокоен, но иногда задавал саркастические вопросы и подтрунивал над теми, кто колебался и отступал. Одно время я хотел взять Ленина, диктующего с такой именно саркастической улыбкой. Это показалось мне малоубедительным и не отвечавшим грозности событий, почему я уничтожил довольно удачную фигуру Ленина, сделанную в этом плане.
стр.1 -
стр.2 -
стр.3 -
стр.4 -
стр.5 -
стр.6 -
стр.7 -
стр.8 -
стр.9 -
стр.10 -
стр.11 -
стр.12 -
стр.13 -
стр.14 -
стр.15 -
стр.16
Продолжение...
|