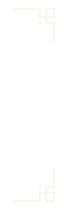|
Картины:

Сказка инея и восходящего
солнца, 1908

Золотые листья, 1901

Разъяснивается, 1928
|
Автомонография Игоря Грабаря
Окончив картину, я принялся за другую, задуманную во время одной из поездок из Дугина в Подольск, к Мусатову. Из Дугина в Подольск было километров двенадцать, и я ездил туда обычно на лошадях. По дороге к дому Мусатова я всегда проезжал мимо подольского "гостиного двора", каждый раз приводившего меня в восторг своей необычайной живописностью. Расположенный по склону горы, вдоль главной улицы города, он тянулся в одну линию и имел вид бесконечно вытянувшегося, пестро раскрашенного деревянного барака с претенциозными "ампирными" формами - уступчатыми фронтончиками на каждом звене, венчиками над окнами и тому подобными реминисценциями 30-х годов. Вся эта длинная деревянная кишка, вздымавшаяся в гору, ценилась на отдельные лавочки-срубы, связанные общей системой покрытия. Каждый собственник сруба окрашивал свою лавку в иной колер, и вся эта постройка имела вид каких-то скворешен. Это впечатление еще более укрепилось от вида "купчих", сидевших на табуретках у входа в лавки. Все они были обращены в одну сторону, по направлению к вокзалу, откуда шел покупатель: "купчихи" - ибо были только женщины - были в лисьих шубах, головами, повязанными шерстяными платками; все сидели с блюдцами чая в руках. Эти смешные странные фигурки, приходившиеся на черных пастях лавчонок, очень напоминали каких-то птиц или насекомых. Каждая лавка имела свою вывеску, восхитительную по изобретательности и расцветке, а все окна и растворенные двери были унизаны пестрыми кастрюлями, сковородками, кружками, скобяным товаром, кусками ситца.
Был во всем этом своеобразный ритм и была необыкновенная острота глухой провинции.
Я много раз делал перед этим "чудом-юдом" зарисовки и наброски, наблюдал жизнь и нравы обитателей "гостиного двора". Достав свои подольские альбомы, я начал компоновать картину, которую задумал так, как естественно подсказывала сама натура: в виде длинного узкого холста, сантиметров в шестьдесят ширины и в два метра длины, взятого в плане декоративного панно. Я взял солнечное зимнее утро, с деревьями в инее, находя такое сочетание высшей красоты в природе с туполобым мещанством и торгашеской жизнью поднимающим и заостряющим гротеск всей затеи. Однако картина была слишком быстро найдена и оставалась недостаточно углубленной, ибо легко и дешево доставшейся.
На выставке "Союза" в Москве зимою 1908/09 года были выставлены следующие мои картины: "В утренней росе", "Неприбранный стол", "Сказка инея и восходящего солнца", "Иней", "Дельфиниум" и "Березовая роща", написанная осенью 1908 года. Это была последняя выставка, на которой появилась столь значительная серия моих работ.
"Купчихи", как я назвал картину с подольскими рядами, не были мною выставлены здесь: я их считал недоработанными и вообще не отвечавшими в тогдашней редакции интересу и значительности самой темы: я дал их, однако, С.К.Маковскому для организованной им в 1910 году в Петербурге первой выставки "Салона", хотя и пожалел об этом, увидав их на выставке.
Около этого времени произошел известный раскол в среде "Союза русских художников". Александр Бенуа назвал в своем очередном фельетоне в "Речи", приуроченном к выставке "Союза" в Петербурге, ряд картин москвичей "балластом". Это прошло бы, вероятно, незамеченным, если бы в балласт не попали и картины А.Е.Архипова, как раз очень ценившиеся москвичами. Стали собирать подписи под письмом-протестом. Я отказался подписаться, так как и сам не слишком ценил тогдашние вещи Архипова, находя его широкий, перенятый у Цорна мазок пустым, живопись однообразной и, при нарочитой яркости, все же в конце концов бесцветной. Письмо появилось в газетах, и Бенуа ответил на него выходом из "Союза". Тотчас же вслед за ним вышли и все петербуржцы, за исключением Рылова, а из москвичей вышел один я. Отколовшиеся организовали снова "Мир искусства", а "Союз" продолжал существовать.
В начале мая 1909 года я отправился в путешествие. Со мною поехал М.В.Мещерин, воспользовавшийся случаем, чтобы побывать на дальнем юге, о чем он уже давно мечтал. Мы сели в Одессе на пароход, следовавший прямым рейсом до Александрии с заходом в Константинополь, Смирну, Пирей. Об этом дивном путешествии можно было бы написать целую книгу. Нас сильно качало, но я не чувствителен к качке и поэтому ничего, кроме удовольствия от морского воздуха, не испытывал. В Константинополе удалось побывать в Айя-Софии и в Кахрие-Джами. София произвела незабываемое впечатление идеальным разрешением проблемы пространства. В Смирне до того прекрасны были фигуры гребцов-турок, в чалмах и фресках, с бронзовыми от загара лицами и белыми зубами, озаренные солнцем, купавшимся в морской пене и аметисте воды, что я дал себе слово приехать сюда только для того, чтобы писать этих красавцев, словно сорвавшихся с картины Веронезе.
Из Пирея мы успели проехать в Афины и видели Акрополь. Надо видеть эту вздымающуюся над городом скалу с обломками бессмертных созданий эллинского гения, чтобы понять извечную красоту всего ансамбля. Никакие картины, фотографии и макеты не дают представления о том, что такое Акрополь и как он расположен. Я знал его место в городе по планам, знал место в нем всех памятников, которые мог бы точно нарисовать, но я не представлял себе ничего подобного тому, что оказалось в действительности. Это просто непередаваемо словами. Я решил из Египта вернуться вновь в Грецию и совершить путешествие и по ней.
Прибыв в Александрию, мы двинулись далее, в Каир. После осмотра пирамиды Хеопса и знаменитого сфинкса двинулись на юг, к Луксору и Ассуану. Храм Луксора, с его гигантской колоннадой, заставил забыть Акрополь: невероятный масштаб, простота форм и архитектурных решений показались более совершенными, чем даже Парфенон. Однако, вернувшись в Афины, я понял, что эллинское искусство могло только временно отодвинуться на задний план, и поездка в Микены, Дельфы, Олимпию только подтвердила эту мысль. И все же едва ли не самое сильное впечатление, вынесенное мною из вторичного посещения Афин, я испытал перед развалинами храма Адриана. Сначала мне было даже обидно, что римский зодчий взял в моих глазах верх над эллинским, но с этим именно чувством я уехал в Италию.
Я был в Сицилии, видел памятники Джирдженти и Селинунта, а прибыв в Неаполь, - развалины Пестума, но и в Италии я испытывал то же чувство большего созвучия нам и нашей эпохе римской архитектурной дисциплины, нежели греческой: Пантеон, Форум, Колизей и даже базилика Константина с ее исполинской апсидой были ближе и дороже тех. Все время казалось, что у римлян, а затем у итальянцев эпохи Ренессанса мы можем большему научиться для себя, для наших дней, чем у греков.
От римлян я легко перешел поэтому к ранним ренессансным мастерам Браманте, Сангалло, Рафаэлю, Джулио Романа, а продвинувшись на север, к Вероне, Падуе и Венеции, - к Микеле Санмикели, Сансовино и Палладио.
Встретившись в Вероне с И.И.Нивинским, приехавшим в Северную талию с женой для изучения росписей в виллах и дворцах, я объехал с ними в экипаже и обошел пешком все виллы, о которых Палладио упоминает в своей книге об архитектуре, выпущенной им в середине XVI века. Шаг за шагом раскрывался передо мною несравненный гений этого человека, величайшего из великих, того же масштаба, что и его друзья Веронезе и Тициан. Я обмерял, зарисовывал и фотографировал. Каждый день приносил что-нибудь новое, неожиданное и неслыханное, давая новые знания и раскрывая новые горизонты. В давно забытых виллах Палладио, от которых нередко приходилось находить только часть когда-то пышного зала, ныне превратившегося в крестьянскую избу, удавалось находить фрагменты фресок Веронезе, Дзелотти или их школы.
Архитектура, впрочем, не совсем заслонила для меня тогда живопись: в Риме я ходил на поклонение Рафаэлю в Станцах и Микеланджело в Сик-стине, но более всего Веласкесу - в палаццо Дориа. Мне незачем было ехать на север, но я не выдержал и поехал в Париж, а оттуда в Испанию. Мог ли я удержаться, чтобы не увидеть наконец Веласкеса там, где он представлен так, как нигде. Незачем рассказывать, что творилось со мною перед его "Ткальщицами гобеленов" ("Las Hilanderas") и автопортретом с инфантой, придворными и шутихой в мастерской художника ("Las Meninas").
Никакие репродукции не дают представления о непостижимости веласкесовской техники и его живописном гении.
стр.1 -
стр.2 -
стр.3 -
стр.4 -
стр.5 -
стр.6 -
стр.7 -
стр.8 -
стр.9 -
стр.10 -
стр.11 -
стр.12 -
стр.13 -
стр.14 -
стр.15 -
стр.16 -
стр.17
Продолжение...
|