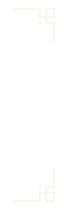|
Картины:

Сказка инея и восходящего
солнца, 1908

Золотые листья, 1901

Разъяснивается, 1928
|
Автомонография Игоря Грабаря
Роясь в архиве Академии художеств, я брал оттуда только тот материал, который относился к живописи и отчасти к скульптуре, оставляя в стороне все, что касалось архитектуры. Первую обрабатывал для моей "Истории" Врангель, вторая была в опытных руках Бенуа, мастера своего дела. И вдруг оказалось, что я должен вновь окунуться в те же "дела президентские" и "дела пенсионеров", в "Репорты", донесения, прошения, во весь этот пыльный бумажный поток, мною уже однажды просмотренный от доски до доски.
Да еще в Государственном архиве, да в сенатском, синодском, Министерстве Двора и т.д. и т.д. Но делать было нечего - пришлось засаживаться за ту же работу.
А одновременно приходилось заводить пространные дискуссии с отдельными авторами различных разделов, частью словесные, но в подавляющем числе случаев письменные, отнимавшие бездну времени. Нередко надо было исписывать целые фолианты, убеждая своего корреспондента в неправильности его установок, толкований и даже общего направления.
С самого начала уже непоправимо испортил дело киевский профессор Г.Г.Павлуцкий, написавший главу о владимиро-суздальской архитектуре, столь дилетантскую, что я решительно отказывался ее поместить, прося П.П.Покрышкина дать взамен ее другую. Он отказался, отговариваясь недосугом и краткостью времени. Издатель не мог ждать, ибо подписчик тоже не ждал, почему пришлось пустить эту ложку дегтя в книгу.
Не меньше крови испортил мне барон Николай Николаевич Врангель. Баловень петербургских светских гостиных, он давно бывал в кругу "Мира искусства", присматриваясь, учась, много читая, набивая глаза на старине. В гостиных его считали лучшим знатоком искусства в Петербурге, мы считали его отрадным явлением на фоне петербургских аристократических гостиных, заслуживающим поощрения.
Понемногу он становился менее легкомысленным, начал разбираться в вопросах художественной атрибуции и в довершение всего у него обнаружилось несомненное литературное дарование.
В 1903 году он уже организовал отличную выставку русских портретов XVIII и первой половины XIX века, выпустив к ней неплохой каталог, а помогая Дягилеву в устройстве выставки в Таврическом дворце, прекрасно усвоил весь ее подавляющий количеством и разнообразием материал. "Барон" пошел в гору, статьи его брали нарасхват. "У барона легкое перо", - говорили в Петербурге.
Первоначально я взялся за составление тома скульптуры, предполагая в дальнейшем поделить живопись пополам с Бенуа. Я исходил все подвалы дворцов и все кладбища в поисках скульптур забытых и полузабытых русских мастеров и снял при помощи штата фотографов множество статуй и бюстов, никому до тех пор не известных. Одновременно я работал в этом же направлении и в архивах. После неожиданного отказа Бенуа я отдал том скульптуры Врангелю, передав ему весь свой тогда уже богатый фотографический материал вместе с архивными выписками. Мы продолжали вместе наши обходы дворцов и дворцовых кладовых, составляя план книги и прорабатывая се отдельные главы. В Москву Врангель вообще не приезжал и скульптур, снятых мною здесь, никогда в оригиналах не видал. Я изложил ему свою точку зрения на "Историю", которая отнюдь не должна быть собранием биографий и не может быть просто справочником, а должна давать связное Повествование о судьбах искусства в разрезе его поступательного движения: Мления должны последовательно и логически вытекать одно из другого а группироваться вокруг центральной идеи - проблемы формы.
Но барон был легок и упрям. Он дал одни биографии, никак не вскрывающее эволюции русской скульптуры, не говорю уже со стороны социологически, ибо я сам был тогда плохим социологом, но и со стороны примитивнейшей смены формальных течений. Сколько я ни убеждал его в непригодности для истории этого типа литературы, он не хотел, да и не мог дать иного.
Том пятый истории русского искусства" - "Историю скульптуры" - надо было заново переиздавать, на что я в скором времени и рассчитывал. Кроме того, и самый анализ скульптур, их оценка и критика носили характер легкого журнального фельетона, не идущего к данной задаче.
Преждевременная смерть Врангеля в начале войны дала повод к вознесению его на такой высокий пьедестал, о котором он при жизни и не мечтал.
Полностью справился зато со своей задачей Федор Федорович Горностаев, прямой антипод Врангеля, исследователь осторожный, избегавший обобщений, вдумчивый, серьезный, хотя и суховатый.
Я старался также не сходить с основной своей установки на проблему эволюции формы, успев выпустить III том петербургской архитектуры и первый выпуск IV тома - архитектуры Москвы.
Сравнительно благополучен вышел VI том, первый из трех предполагавшихся томов истории живописи, весь посвященный иконописи, хотя наши теперешние оценки и датировки не сходятся с теми, которые даны главным автором этого тома - Павлом Павловичем Муратовым.
"История" закончилась выходом 23-го выпуска. В мае 1915 года, во время немецких погромов в Москве, все клише и негативы, хранившиеся в магазине Кнебеля, в Петровских линиях, были уничтожены, ибо Кнебель был австрийским подданным. Издание не могло продолжаться. Я долгие месяцы не мог прийти в себя после этого ужасного события, не будучи в силах работать. Вместе с кнебелевскими погибло и несколько тысяч моих собственных негативов.
Кроме работы над "Историей" я за эти годы написал еще ряд исследований, напечатанных в "Старых годах", из которых лучшим считаю статью "Ранний Александровский классицизм и его французские источники", в которой впервые дана попытка разобраться в вопросе о происхождении стиля начала XIX века. Она появилась в летнем номере "Старых годов" за 1912 год.
Статья вызвала много откликов за границей, особенно во Франции, откуда я получил ряд запросов по поводу роли и значения Леду в истории мировой архитектуры классической эпохи, до того никем не освещенных.
Весь 1913 год ушел у меня на организацию двух посмертных выставок Серова - в Петербурге и Москве - и на выпуск его монографии.
Прекращение "Истории русского искусства" развязало мне руки и время для живописи. Но какие-то струны были порваны: целых пять лет, с 1909-го по 1914 год, я не дотронулся до кисти, находясь во власти пера. Только в этом последнем году я начал снова исподволь заниматься живописью. Но былое мастерство ушло и его приходилось восстанавливать путем новых Упражнений и упорной работы.
После ряда таких этюдов-упражнений я взялся за большой групповой портрет.
За тем же столом, на котором был в 1904 году накрыт утренний чай, в той же липовой аллее, за десять лет значительно разросшейся, я посадил тех самых мещеринских девочек, групповой портрет которых под березами не кончил тогда. Они также за десять Лет выросли, и одна из них, старшая, рыжая, уже успела превратиться в мою жену.
Она сидела на скамье, а сестра ее на столе, посреди вороха васильков. Я целое лето писал этот портрет, в одно и то же время незаконченный и Переконченный.
Только в следующем, 1915 году удались две вещи: "Раскрытое окно", - с букетом сирени и незабудок, и "Рябинка" - этюд красной рябинки на фоне золотых берез, изумрудной полосы зеленей и бирюзового неба. Первая писана в мае, вторая - в сентябре. Обе вышли неплохо, в особенности вторая, находящаяся в Третьяковской галерее.
В октябре того же года я написал натюрморт "Груши на синей скатерти", купленный в Музее Академии художеств, откуда он перешел в Русский музей, а позднее еще ряд этюдов, из которых лучший - с чайной посудой на скатерти - находится в музее г. Кирова. Все эти вещи, как и те, которые я написал в 1916-м и 1917 годах, натюрморты и пейзажи, являли уже доказательство окончательного отхода от импрессионизма и дивизионизма и были переходом к задачам чисто цветового восприятия природы.
стр.1 -
стр.2 -
стр.3 -
стр.4 -
стр.5 -
стр.6 -
стр.7 -
стр.8 -
стр.9 -
стр.10 -
стр.11 -
стр.12 -
стр.13 -
стр.14 -
стр.15 -
стр.16 -
стр.17
Музейная деятельность 1913-1930...
|