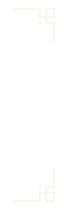|
Картины:

Сказка инея и восходящего
солнца, 1908

Золотые листья, 1901

Разъяснивается, 1928
|
Автомонография Игоря Грабаря
Живя долго за границей, я не знал о существовании Художественного театра и не видал ни одной оперы Римского-Корсакова, кроме "Снегурочки". Я стал ходить в театр и в оперу.
Трояновские, все трое, исключительно музыкальные от природы и знавшие хорошо музыку, взялись просвещать меня по части новинок, и я сразу окунулся в Римского-Корсакова, Мусоргского, Бородина, забыв даже временно о Чайковском.
Иван Иванович отлично пел, обладая прекрасным тенором, Анна Петровна играла на рояле, Анна Ивановна играла и пела. Кончилось тем, что я стал брать уроки на рояле у композитора и пианиста А.Н.Корещенко, того самого, о музыке которого какой-то газетный балагур напечатал двустишие:
От музыки Корещенки
Завыли на дворе щенки.
Имение оказалось верстах в восьми от платформы Герасимово Рязано-Уральской железной дороги, в 28 верстах от Москвы.
Дугино было расположено на левом берегу реки Пахры, на высоком холме, с которого открывался вид кругом на десятиверстное пространство. "Вот она, типичная подмосковная природа", - думал я, сидя в санях и проезжая то лесом, то холмами и полями, то перелесками.
Был мягкий серебристо-серый день, с голубыми лесными далями. Куда ни взглянешь, все красиво, все хотелось писать, все было лучше, чем в Наре, чем в Титове.
Я оказался один в большом доме с Марком Евсеевичем, знаменитым охотником. В Дугине был культ охоты. Сюда постоянно под праздник приезжали приятели хозяев поохотиться: ели, пили, уезжали на охоту; вернувшись домой, опять ели и пили, сражаясь в промежутках в картишки.
Глава семьи Мария Яковлевна Мещерина, вдова основателя Даниловской мануфактуры, за старостью уже не ездила в Дугино. У нее было трое сыновей и дочь. Старший, Николай Васильевич, и был художником и, по заведенному в купечестве обычаю, главным хозяином имения.
Последнее было невелико и не приносило никаких доходов, а, напротив, требовало постоянных вложений в садовую и огородную культуру, на содержание всех его обитателей и удовлетворение их прихотей. Он был женат и бездетен. Когда я с ним познакомился, ему было лет сорок.
Среди художников он выделялся своей патриархальной большой бородой-лопатой, черной, слегка тронутой проседью. Был он, как, впрочем, и вся семья, жесточайшим неврастеником, ложился под утро, вставал после полудня, иногда даже в два и три часа дня, ел только самые легкие блюда, не тяжелее одной куриной котлетки, главным же образом питался икрой и яйцами всмятку.
Зато уничтожал невероятное количество чая, и самовар в Дугине не сходил со стола ни днем ни ночью. На ночь самовар одевали в ватные одеяла и шерстяные ткани, чтобы поддержать горячую воду до утра. Раз в неделю приезжал второй брат Михаил Васильевич Мещерин, ведший все дела в Москве по управлению домами и имениями.
У него были две дочери-подростки и сын, мальчик лет восьми. Старший брат давно уже перестал охотиться, будучи болезненно мнительным. Он вечно от чего-нибудь лечился: не проходило дня, чтобы к нему домой или в Дугино, если он был здесь, не вызывался один из его трех домашних врачей.
Николай Васильевич был человек лирического склада, говорил тихо, был осторожен во всем - в поступках, в движениях, жестах, отзывах и высказываниях. Михаил Васильевич, напротив, был порывист и жизнерадостен, не признавал докторов и подшучивал над братом.
По приезде в Дугино нас знатно накормили, и Марк Евсеевич познакомил меня с кучером Мишуткой "Арбузом", молодым парнем, предоставленным по приказанию Николая Васильевича в мое распоряжение. Он был, собственно, не кучер, а извозчик из Царицына, сын владельца извозного промысла в Царицыне Арбузова.
Второй извозчик, Володя, состоял при особе Николая Васильевича. Мишку предупредительно выписали для моей персоны. Их обязанность заключалась в том, чтобы ездить "на этюды" в соседние Чурилково, или Шестово, или Колычево, Лукино, Куприяниху и Немчиниху. Сам Николай Васильевич до того привык к своему "Лепорелло", что без него ни шагу не мог ступить.
Если этюд писался у самой калитки дома, Володя все равно должен был запрягать арбузовскую лошадь, ставить мольберт, открывать ящик с красками и присутствовать при писании этюда. В конце концов он и сам соблазнился и начал писать этюды и делать копии. Они были неважны, но кучер Егор, уже не извозчик, а патентованный кучер, тоже соблазнившийся видимой легкостью писания масляными красками, достиг довольно неожиданных результатов, делая приличные копии и этюды с натуры. Все они были уверены, что не боги горшки обжигают.
Мне было как-то неловко пользоваться услугами Мишутки по пустякам, и я ездил только в дальние места, предпочитая невдалеке от дома оставаться наедине с собой, своим мольбертом и холстом. Но я в первый же день проехался с ним, чтобы ознакомиться с окрестностями Дугина, которыми остался очень доволен, особенно обилием берез.
Это странное дерево, единственное среди всех белое, редко встречающееся на Западе и столь типичное для России, меня прямо заворожило.
Николай Васильевич не приехал не только на другой день, но и на третий и на четвертый, прибью только дней через десять. Он был невероятным кунктатором, что при мнительности и постоянной надобности советоваться с врачами, да соблюдать меры предосторожности, да на всякий случай еще повременить разбивало вдребезги все его планы, внося чудовищный хаос в жизнь.
Зато через несколько дней приехал В.В.Переплетчиков. Сам происходя из купеческой семьи, он знал жизнь и быт московского купечества, со всеми чертами, еще не изжитыми со времен Островского, и рассказал много интересного о всей мещеринской семье. Оказалось, что в Дугине перебывали все известные московские художники, которых привлекало радушие и гостеприимство хозяина, деликатность его натуры и наличие несомненного дарования.
Мещерин начал довольно поздно заниматься живописью - лет тридцати, пользуясь советами Переплетчикова, с которым все три брата учились в Практической академии. Первые уроки рисования он брал у А.М.Корина, потом У М.X.Аладжалова и отчасти у Переплетчикова.
У него сразу как-то дело пошло на лад, и через несколько лет он мог уже выставляться на периодической выставке. Его этюды заметил и оценил Левитан; даже редакция "Мира искусства" отметила их, воспроизведя некоторые на страницах журнала.
Левитан, при всем огромном даровании и самостоятельности, зорко всматривался в пейзажи своих современников, старшего и младшего возраста, стараясь извлечь из них все, что ему казалось полезным и нужным для собственных работ. В этом отношении он был в известном смысле "использователем" чужих идей - черта, свойственная сильным людям, создателям новых направлений, без стеснения берущим свое добро там, где они его находят. Однажды он смотрел последние работы Мещерина и, отобрав из них несколько, трактовавших тему деревенских сараев, отложил их в сторону и затем долго разглядывал каждый в отдельности, сказав в заключение:
- Замечательный мотив. Никто сараев не писал, а следует. Ваш покорный слуга сейчас занят той же темой.
Через год появилась серия левитановских сараев. Если не всецело, то отчасти они могли возникнуть под влиянием нового мещеринского мотива. К моменту моего приезда в Дугино он был, во всяком случае, уже давно не дилетантом, а видным художником, не менее самостоятельным, чем даже Переплетчиков.
стр.1 -
стр.2 -
стр.3 -
стр.4 -
стр.5 -
стр.6 -
стр.7 -
стр.8 -
стр.9 -
стр.10 -
стр.11 -
стр.12 -
стр.13 -
стр.14 -
стр.15 -
стр.16 -
стр.17
Продолжение...
|